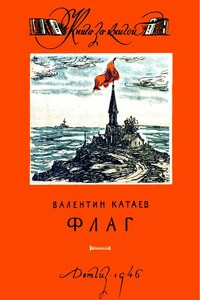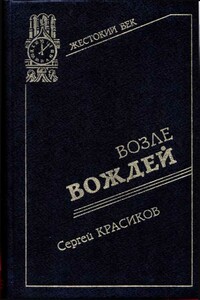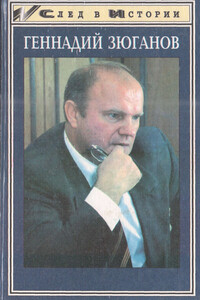Алмазный мой венец (с подробным комментарием) | страница 44
„…в архив иллюзии сданы, живет Филиппов липово, отощал Филиппов, и штаны протерлись у Филиппова“…>{208}
Хотя штаны и протерлись, но булочная долго называлась булочной Филиппова.
Что касается дома „Эльпит-рабкоммуна“, то о нем был напечатан в газете „Накануне“ весьма острый, ядовитый очерк, написанный неким писателем, которого я впредь буду называть синеглазым>{209} — тоже с маленькой буквы, как простое прилагательное.
Впоследствии романы и пьесы синеглазого прославились на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом…
…а тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в железнодорожной газете „Гудок“>{210}, писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная Манишка>{211}. Он проживал в доме „Эльпит-рабкоммуна“ вместе с женой>{212}, занимая одну комнату в коммунальной квартире, и у него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза>{213} на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо-ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье.
Он был несколько старше всех нас, персонажей этого моего сочинения, тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами>{214}, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице.
В области искусств для нас существовало только два авторитета: Командор и Мейерхольд. Ну, может быть, еще Татлин, конструктор легендарной „башни Татлина“, о которой говорили все, считая ее чудом ультрасовременной архитектуры.
Синеглазый же, наоборот, был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог Командора, Мейерхольда и Татлина>{215} и никогда не позволял себе, как любил выражаться ключик, „колебать мировые струны“>{216}.
А мы эти самые мировые струны колебали беспрерывно, низвергали авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма коробило синеглазого, и он строго нас за это отчитывал, что, впрочем, не мешало нашей дружбе.
В нем было что-то неуловимо провинциальное.