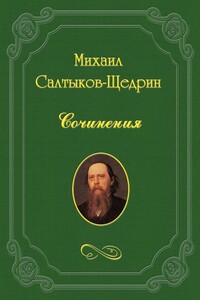Пестрые письма | страница 56
— Владычица… видела?! Ты… Ты… Ты… видела?!
Наконец воротилась домой и с криком: «Все оно! все это злое, ужасное дело!» — упала на постель и так мучительно зарыдала, что все домашние сбежались в соседнюю комнату и, бледные и оцепенелые, ждали окончания кризиса.
С следующего же дня жизнь Арины Михайловны пошла по-новому. Она чувствовала, что весь воздух около нее пропитался срамом, что она сама вся с ног до головы срамная, срамная, срамная! И ежели она не убежала из этого срамного дома, то потому только, что бежать отсюда некуда. Но мысль о возможности жаловаться или хлопотать ни разу не представилась ее уму. Этакой срам, да еще нести его на суд — боже избави! Надо его погребсти, надо совсем забыть этот срамной угар, в котором она растеряла и ум, и стыд, и память о прошлых, когда-то счастливых днях!
Как женщина хозяйственная, она тотчас же сократила размеры своей жизни, сообразно с теми средствами, которые давал ей уменьшенный на две трети капитал. Однако штат прислуги решилась не трогать. По-прежнему при ней остались и Платонидушка, и Евсеич, и дворник Палладий, тоже из присыпкинских дворовых. Никому из них она ничего не открыла, но все видели ее недавнее возбуждение и хлопоты, и понимали, что с барыней случилось что-то чрезвычайное. И втайне радовались, что Тимошке пучеглазому в их тихий, старозаветный дом навсегда дорога запала.
Устроивши свой домашний обиход, Арина Михайловна уселась в кресло и замолчала. Даже от окна отодвинулась, потому что однажды ей показалось, будто бы он прокатил мимо на лихаче и сделал ей ручкой. Вязальные спицы быстро шевелились в ее руках; шарф поспевал за шарфом. Думала ли она о чем-нибудь во время этой работы — трудно сказать; скорее всего, мысли мелькали в ее голове урывками, не задерживаясь и пропадая бесследно вслед за своим зарождением. Но скоро и это времяпровождение пришлось оставить, потому что шарфы дарить было некому, а шерсть между тем денег стоила. Пасьянсов никаких она не знала, а в ералаш с тремя болванами хотя и попробовала сыграть, но это занятие слишком живо напоминало его. Со всех сторон она чувствовала себя беспомощною. Ничего она не знала, ни к чему не чувствовала охоты. Однако жила же она прежде? И не как-нибудь жила, не сложа руки сидела, а целый день устраивала и ухичивала. Ах, это «злое, ужасное дело»! Но теперь даже и к этой сердечной боли, к этой причине всех причин, она начала относиться как-то тупо. Извне ничто до нее не доходило; даже того лакейского говора она не слышала, который по вся дни стоном стоит над Москвою. Некому было рассказать ей ни о новых проказах суда, ни о земских «штуках», ни о железнодорожных крушениях. Ничто не питало ее мысли, ничто не подавало повода восклицать: «Вот погодите! ужо еще не то будет!» Она знала, конечно, наверное, что будет что-то ужасное; но так как подтвердительного факта под руками у нее не было, то прорицания, даже в ее собственных глазах, приобретали характер совершенно бесцельной назойливости.