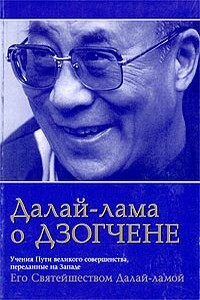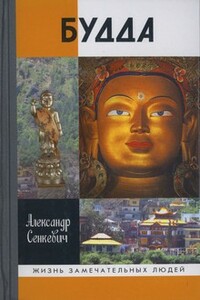Дзен в искусстве стрельбы из лука | страница 41
* Мистическое соединение с божеством {лат.).
тельно, а получает спасение. Отказ от своего «я» требуется только на время, только ради не терпящего двойственности единства, потому что Бог входит исключительно в те души, которые без всякого сопротивления в качестве высшей жертвы принесли свою возможность быть самими собой. И если возрождение произошло, то душа становится богоданной серединой, живет сама по себе, подобно колесу, которое катится само собой.
А в понимании дзэн существование человека само по себе экстатично и эксцентрично*, независимо от того, осознает он это или нет. Чем сильнее человек осознает свое «я», пытается возвыситься и совершенствоваться, что в действительности невозможно даже в самом слабом приближении, тем заметнее он отходит от центра бытия, который уже вовсе не его собственный центр.
* Судя по употреблению в тексте, автор использует слова экстатично и эксцентрично, исходя из этимологического уровня, т. е. экстатично — с утратой статичности (неподвижности) , эксцентрично — с потерянным центром.
Для дзэн-буддиста все сущее, кроме человека (животные и растения, камни и земля, воздух, огонь и вода), неприхотливо живет через середину бытия, не покидая ее и даже не имея возможности ее покинуть. Если заблудшему и запутавшемуся человеку нужна безопасность и невинность бытия, в которой так убедительно живет все сущее, в основе своей безнамеренно, тогда ему необходимо радикально измениться. Он должен по собственной воле отказаться от пути, ложность которого подтвердили тысячи страхов и несчастий, должен отринуть от себя все, что обещало привести его к самому себе, к манящему чуду жизни, — отказаться, чтобы вернуться в «дом Истины», который он, едва оперившись, мужественно покинул, погнавшись за фантомами. Он должен стать не «подобным ребенку», а подобным лесу и скале, цветку и плоду, погоде и буре.
В дзэн ил го обозначает возвращение, воссоздание изначального, но утраченного состояния. Чтобы, подобно животным, растениям и всему сущему, жить в равновесии, человек должен пройти путь, отрицающий все неуравновешенное, что в нем есть.
В Восточной Азии это возвращение и обращение не отдают на откуп случаю. Их можно подготовить. Так делают в Японии. В дзэн-буддизме для этого пути существует особая методика.
Против принятого в дзэн-буддизме понимания бытия можно выдвинуть одно возражение: человек на Востоке за свою долгую историю никогда столь безнадежно далеко не отходил от природы, как, скажем, человек европейский. Это легко доказать не только на бытовых примерах, но даже еще более убедительно на основе восточноазиатского искусства. Правда, следует иметь в виду, что даже извечная близость к природе — это еще далеко не близость к дзэн. Природа (как бы ее ни определяли) — это ни в коем случае не всеобъемлющая Истина, жизнь через которую составляет сущность дзэн. Но и это не объясняет, почему житель Восточной Азии, и прежде всего японец, практически не отходит от традиционных отношений и даже не пытается от них отойти, несмотря на всю модернизацию своей жизни в экономическом, политическом и техническом аспектах. Итак, подобное возражение не обосновано и не затрагивает сути, потому что, когда дзэн-буддизм проник в Японию, о модернизации жизни речь еще не шла. И хотя тогда люди жили в непосредственной близости к природе и беспрекословно соблюдали традиции, дзэн-буддизм все равно рассматривал это тщательно оберегаемое существование как эксцентричное, как отход и, наконец, как вину.