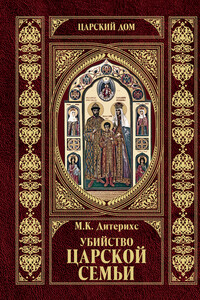Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале (Часть II) | страница 34
Тем паче невозможно было создать хитроумным эволюционным порядком необходимую для борьбы силу, и Исполнительный Думский Комитет, лишь затягивая кризис, неизбежно пошел к своей катастрофе. Шаткою же эволюционною тактикою своего правления он вместе с тем создал томительную и тяжелую агонию для Царской Семьи и повел Ее последовательными этапами к кошмарной развязке в Ипатьевском доме 17 июля 1918 года. Страшная полуторагодовая агония и ужасный ее конец были столь же неизбежны в истории России и связанной с ней истории трагедии династии Романовых, как неизбежно было вообще падение в бездну «всея земли», отказавшейся, хотя и временно, от своей нравственно-религиозной идеологии.
Граф Витте в своих записках об истории возникновения известного указа 12 декабря 1904 года, вспоминая одну из своих бесед с Императором Николаем II, пишет: «Во время этого разговора зашла речь о земских соборах. Я высказал убеждение, что земские соборы - это такая почтенная старина, которая при нынешнем положении не применима; состав России, ее отношения к другим странам и степень ее самосознания и образования и вообще идеи XX и XVI века совсем иные». Графа Витте считали образованнейшим русским интеллигентом и выдающимся государственным деятелем своего времени, когда ему было поручено руководительство правительством в труднейший и опаснейший момент государственного перелома в истории русского народа. Теперь, когда в его записках открывается действительная физиономия и содержание этого вершителя судеб России, делается как-то жутко даже за прошлое. В своем ответе Государю о земских соборах, граф Витте оказался и плохим русским историком, и плохим русским националистом, и плохим знатоком русского народа, и достаточно посредственным русским мудрецом, но, безусловно, сильным, самомнительным и увлеченным русским боярином-западником.
Во-первых, расцвет земских соборов был не в XVI, а в XVII веке, и именно в идейном их значении; во-вторых, территориальное изменение России с XVII по XX век не имеет серьезного влияния на состав представительных органов; новыми элементами по сравнению с XVII веком являлись теперь только окраины - Польша, Литва, Крым, Кавказ, Туркестан и Восточная Сибирь, представители коих не могут оказать подавляющего влияния на доминирующее представительство основного района, ядра России, однородного по составу населения, не изменившегося с XVII века; в-третьих, слаба национальность того государственного деятеля, который в идее внутреннего устройства государства зависит от мнений иностранных соседей; да и какие такие отношения России к другим странам могли повлиять на созыв Земского Собора или иного представительного органа? В-четвертых, события 1917-1920 годов ярче всего опровергают голословное заявление графа Витте о значительной, неизмеримой разнице в степени самосознания и образования России в XVII и XX веках. Это грустно, но тем не менее это так, и у графа Витте не было никаких данных выставлять этот довод против Земского Собора. Он мог явиться у него лишь как плод собственного теоретического увлечения западничеством без прочного знания своего народа. Да и откуда могли развиться столь успешно самосознание и образование народа, чтобы явиться помехой Земским Соборам хотя бы по форме. С 1861 года времени прошло еще слишком мало, кредиты на эту отрасль народного благосостояния, как не могло не быть известно графу Витте, отпускались очень скромные, да к тому же далеко не западническая по духу винная монопольная практика графа Витте над русским народом слишком мало способствовала здоровому развитию народного самосознания и образования. Наконец, в-пятых, и что самое существенное, «вообще об идеях» графу Витте, как западнику, лучше было совсем не говорить. Ведь именно здесь-то, в идеях, в идеях о государственности России и кроется основной корень расхождения увлеченных бояр-западников и русских людей, питающих мысль историей русского народа.