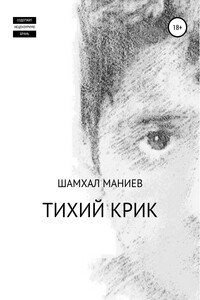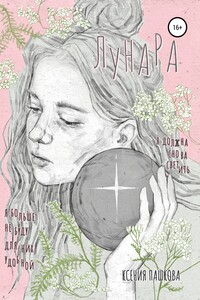Вскрытые вены Латинской Америки | страница 69
По правде говоря, Барбадос был первым островом Карибского моря, откуда сахар начали вывозить в большом объеме уже с 1641 г., хотя в нынешней Доминиканской Республике и на Кубе испанцы стали выращивать сахарный тростник гораздо раньше. Как было сказано выше, именно голландцы первыми разбили сахарные плантации на Барбадосе; в 1666 г. на этом маленьком британском острове было уже 800 плантаций и более 8 тыс. рабов. Рождающаяся латифундия вширь и вглубь овладевала Барбадосом, уготавливая ему не лучшую судьбу, чем Северо-Востоку Бразилии. До этого хозяйство острова было многоотраслевым: там выращивались, хотя и в малых количествах, хлопок, табак и апельсины, было развито животноводство и свиноводство. Сахарный тростник задавил прочие сельскохозяйственные культуры, плантации уничтожили густые леса ради триумфа, оказавшегося эфемерным. Весьма скоро обнаружилось, что земли острова истощены, нечем кормить население, а производство сахара на экспорт становится убыточным[15]. /102/ А сахар уже перебрался на другие острова — на Подветренные и на Ямайку, а также на континент — в тогдашние Гвианы. В начале XVIII в. на Ямайке рабов было в десять раз больше, чем белых колонов-батраков. И ее почвы тоже истощились за короткое время. Во второй половине века лучший в мире сахар шел с рыхлых почв равнинного побережья Гаити, бывшего тогда французской колонией. Север и запад Гаити кишели рабами: сахар упорно требовал рабочих рук. В 1786 г. в эту колонию прибыло 27 тыс. рабов, а на следующий год — 40 тыс. Осенью 1791 г. там вспыхнул мятеж. Только в одном месяце — сентябре — огонь превратил в пепел 200 тростниковых плантаций. Восставшие рабы продолжали поджоги и так рьяно сражались, что сумели прижать французские войска к самому океану. Корабли отчаливали, увозя с собой все больше французов и все меньше сахара. В ходе войны кровь лилась ручьями, плантации опустошались. Война оказалась затяжной. Хозяйство дотла сожженной страны было парализовано, к концу века производство сахара почти прекратилось. «В ноябре 1803 года вся ранее процветавшая колония превратилась в одно большое кладбище, в прах и мусор», — пишет Лепковский[16]. Гаитянская революция совпала по времени с Великой Французской революцией, и Гаити на собственной шкуре пришлось испытать последствия блокады Франции силами коалиции европейских монархов, поскольку Англия властвовала на морях. А затем Гаити пришлось пережить — по мере того как все яснее становилось, что она готова бороться до конца за независимость, — блокаду и со стороны самой Франции. Уступив французскому нажиму, конгресс Соединенных Штатов наложил в 1806 г. эмбарго на торговлю с Гаити. Лишь в 1825 г. Франция признала независимость своей старой колонии, но потребовала огромную денежную контрибуцию. В 1802 г., вскоре после захвата Туссена-Лувертюра, вождя армии рабов, генерал Леклерк писал с острова своему шурину Наполеону: «Мое мнение относительно этой страны таково: ликвидировать всех негров, засевших в горах, — и мужчин, и женщин, за исключением детей младше двенадцати лет; уничтожить половину негров на равнинах. И не брать в колониальное войско ни единого мулата»[17]. Тропики отомстили Леклерку, он умер от «черной рвоты», несмотря на все /103/ магические заклинания Полины Бонапарт[18], так и не сумев привести в исполнение свой план. Однако денежная контрибуция тяжким бременем легла на спины независимых гаитян, переживших кровавые бани, которые устроили им несколько военных карательных экспедиций. Страна восстала из руин, по так и не смогла до конца оправиться: поныне она остается самым бедным государством Латинской Америки.