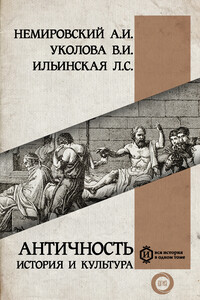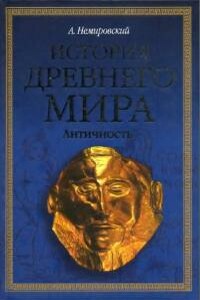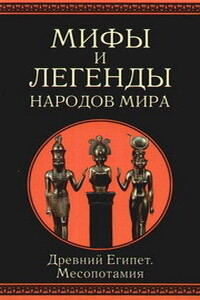Я — легионер | страница 32
Публий шёл дорогой, ведущей в Рим. У него было лицо с тяжёлым подбородком, с деревенским румянцем на щеках. Со стороны его можно было принять за простого пастуха. Но тот, кто взглянул бы в его глаза, остановился бы ослеплённый их блеском. Он бы увидел в нём потомка тирренов, унаследовавшего всю их мудрость и всю страсть. Он бы понял: для этого человека нет невозможного. Меценат откроет ему двери своего дома. Октавиан будет гордиться дружбой с этим нищим мантуанцем. Римляне будут ходить за ним толпами и рассказывать: «Я видел самого Публия Вергилия». А он, Публий, будет бежать от людей. Он останется недоволен собой и прикажет сжечь «Энеиду» — величайшую поэму своего времени. Она уцелеет и доставит ему бессмертие, вечную славу. Ему будет чужда сытость. До последнего дыхания Вергилий будет верить, что ещё ничего не сделал, ничего не достиг, что лучшие строки ещё не написаны.
Смерть Овидия
Волны ещё не смыли очертаний тела на прибрежном песке, а чёрная голова пловца уже едва виднелась в открытом море. Издали её можно было принять за нырка — водяную птицу, плававшую у берега в эти осенние дни.
Несколько мгновений назад пловец лежал на животе, бездумно пропуская между пальцами мокрый песок. Ветер трепал длинные волосы, стянутые на лбу льняной тесьмой. Из камышей, обнявших колючим строем небольшое озеро, доносилось ленивое мычание волов. Эти привычные звуки успокаивали. А прикосновение волн, заливавших по щиколотки ноги, было приятно, как ласка ребёнка.
И вдруг человек вскочил на ноги. Его чуткий олух уловил голоса. Римляне! Они шли, оживлённо разговаривая, непринуждённо смеясь.
Пастух сжал ладонь, словно в ней была не горсть песку, а горло недруга. Из кулака потекла жёлтая жижа. Не раздумывая, он бросился в море и поплыл к плоской, вытянутой косе.
Местные жители, геты, прозвали его Меченым за рубцы и шрамы на теле. Никто не знал его настоящего имени, потому что он был продан в рабство ребёнком. Рассказывали, что он провёл много лет на корабле, поднимая и опуская тяжёлое весло, и это ожесточило его душу. У него не было семьи. Дочери и жёны рыбаков избегали его. Он никогда не смотрел людям в глаза, изъяснялся на каком-то странном языке, смешивая греческие и латинские слова с наречием своего народа. Он умел читать не хуже тех, кто приходил из города собирать налоги. Но казалось странным, что он никогда не бывал в Томах и при появлении на берегу римлян прятался, хотя ему ничто не угрожало.