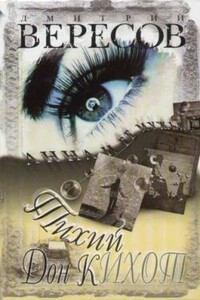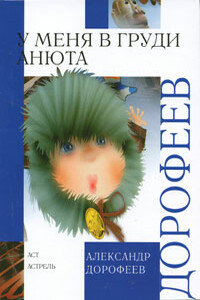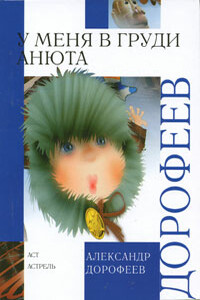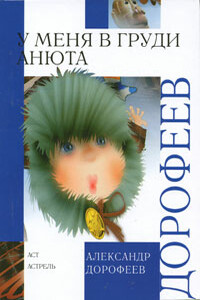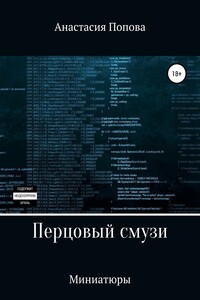Московское наречие | страница 63
Арба остановилась у двухэтажной гостиницы, похожей на обувную коробку с окошками. Номер на втором этаже выглядел опрятно, но удушающе, и Туз сразу распахнул балконную дверь, едва не шагнув в пустоту, поскольку под ногой обнаружился лишь цветочный ящик с бледным корешком. Дядя Леня опустился в кресло. На подлокотнике прежний постоялец так внушительно вырезал «здесь лежала моя рука», что положить свою профессор не решился. Почесывая макушку, сказал: «Хорошо бы, Тузок, смахнуть дорожный прах. Приметил я чистилище по дороге»…
На улице ровным счетом никого не повстречали. Только ишаки жаловались на судьбу трубными голосами – со скрежетом, рыданием и безумными всхлипами.
«Куда все подевались? – недоумевал профессор. – Может, на базаре? Или, не приведи Господи, в бане?»
Но баня тоже была безлюдна. На каждом шкафчике – перевернутая шайка. Только отрок в белой майке и тюбетейке колесил на велосипеде по предбаннику меж квадратных колонн. Когда разделись, он замкнул дверцу, не слезая с велосипеда, и снова закружил на шуршащих шинах в серой полутьме.
«Шайтанское местечко, – заметил голый дядя Леня, ухая, как ощипанный филин. – Из горячего – холодная, а из холодного – шиш!»
Туз, впрочем, не столько мылся, считая себя и без того чистым, сколько глядел в незакрашенное банное окошко, откуда виделся ему манящий оазис – под огромными платанами мелькали тени прелестных дев. «Фата-моргана! – огорчил профессор. – Хоть год стремись, не доберешься. В чистилище, Тузок, одни миражи»…
Поплескавшись в шайке, он заметно ободрился. На обратном пути зашел в «Товары повседневного спроса» и купил огромную банку меда. Выпивал дядя Леня только в пути, а прибыв на место, становился трезвенником. «Вот что от миражей помогает! – кивнул на густой, полный солнца мед и задумался. – Интересно, равны ли три литра трем килограммам или тут какой-то подвох? Не силен я в мерах веса»…
Высоко в вечернем уже небе играли ласточки. Полет их был стремителен и вроде бы запутан, но сквозила в нем свободная стройность – в честь заходящего солнца. Ниже, в кронах деревьев, порхали неровно, как бабочки, летучие мыши. Казалось, одни кривые крылья носятся над землей, отсекая ветки и так обстригая сумерки, что мерещились светлые полоски. В мышином полете, родственном мерцанию лампочки ветреной ночью, угадывалось приближение тьмы египетской. Они быстро прогрызли в небе дырочки, из которых и потекла ночь.
Весь городишко собрался в приемном покое гостиницы у телевизора на тонких, как у ягненка, ножках. Стулья были заняты, на полу не хватало места, так что лежали и под самим телевизором, глядя в потолок на бледные тени. Старец в экране душил одной рукой хрупкую шею музыкального инструмента, лаская другой дынное его тулово. Прозрачный медовый напев путался с храпом кавказского розлива, а коридорная уже скатывала на ночь, чтобы не уперли, ковровую дорожку.