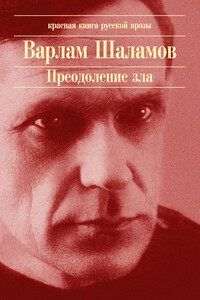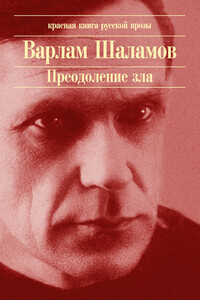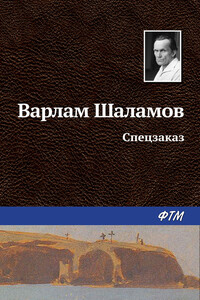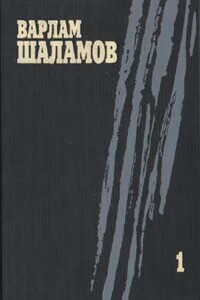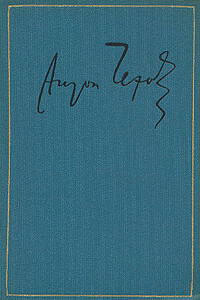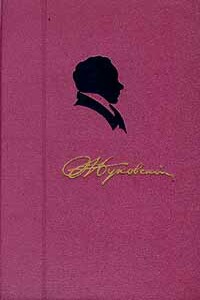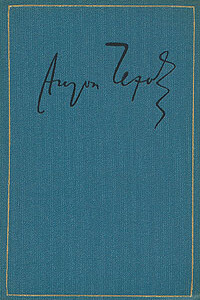Переписка | страница 7
Я видел Вас один раз в жизни. Не то в 1933 или в 1932 году в Москве в клубе МГУ Вы читали «Второе рождение», а я сидел, забившись в угол, в темноте зала и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами. Всего за несколько лет я был огорошен и подавлен строками «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд» и т. д. Я волновался и не понимал, какую силу и глаз надо иметь, чтобы написать такие стихи. И с того времени каждая Ваша строка, бывшая в печати, привлекала и тревожила меня.
Стихи я пишу давно, с детства, но, кажется, никогда показывать их кому-либо не пробовал и впервые показал вот Вам. Все, что было написано раньше — безвозвратно потеряно, да мне и не жаль тех стихов. Мне жаль стихов последних лет — их растеряно немало и только десятая, может быть, часть показана Вам.
Позднее, когда я встретился со стихами Анненского и они стали очередным откровением для меня — мне было ясно, что поэтические идеи Анненского близки Вашим. Вы пишете о влияниях. Я никогда как-то не доверял этому понятию. Мне казалось, что в ряде случаев (и в моем также) дело не во влиянии, а в исповедовании одной и той же веры. Влияние — это порабощение, а единоверие — это свобода.
Я всей душой согласен с Вами, что писание стихов как самоцель — чушь. Но ведь как рождалось то и росло: игра, в которой ощущаешь силу, голос старых мастеров, слушая который, перехватывает дыхание, топотанье стихов в мозгу — такое неотвязное, что легче становится только тогда, когда запишешь их мир, который с каждым годом все покорнее ложился на бумагу. А потом — ведь с юности думалось, как бы послужить людям, принести хоть какую-нибудь пользу, не даром прожить жизнь, сделать что-то, чтобы люди были лучше, чтобы жизнь была теплей и человечней. И если чувствуешь в себе силу сделать это стихами, в искусстве — тогда все другие пути теряются в тумане и все становится неважным, подчас и сама жизнь. Так многое растеряно, брошено, убито, не достигнуто и только самое дорогое пронесено через всю жизнь: любовь к жене и стихи.
К тому же я верю давно в страшную силу искусства. Силу, не поддающуюся никаким измерениям и все же могучую, ни с чем не сравнимую силу. Вечность этих Джоконд и Инфант,[6] где каждый находит свое смутное, не осознанное и волнующее, и художник, умерший много веков назад, силой своего искусства воспитывает людей до сих пор, что может быть завидней такой силы и какое счастье может ощущать тот, кто положил свой камень в это вечное здание. Я никого ни с кем не сравниваю, я снимаю понятие масштабов.