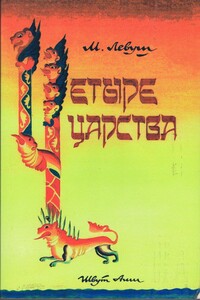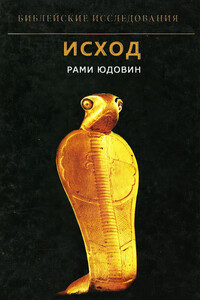Теология дополнительности | страница 15
«Притча, – пишет ученый (в данном случае православный человек, С. С. Аверинцев [21]) – это дидактико-аллегорический жанр, в основных чертах близкий басне. В отличие от нее форма Притчи не способна к обособленному бытованию и возникает лишь в некотором контексте, в связи с чем она допускает отсутствие развитого сюжетного движения и может редуцироваться до простого сравнения, сохраняющего, однако, особую символическую напряженность». Краткая литературная энциклопедия М. 1971 Т.6. Статья Аверинцев С. С. «Притча»
Христианин определит притчу достаточно близким «общим» образом. Так, в «Словаре библейского богословия» написано: «Притчу надо понимать как некую игру символов, т. е. образов, взятых из земных реальностей, чтобы обозначить ими реальности богооткровения (Св. История, Царство…) и нуждающиеся в большинстве случаев в глубинном объяснении». Словарь Библейского богословия. Брюссель. 1990. «Притча»
Как же определяет притчу иудаизм? С помощью той же притчи. «Притча, – учит иудаизм, – это свеча ценою, быть может, меньше одной пруты, но зажегши которую, царь можете отыскать утерянное им золото или жемчужину». (שיר השירים רבא 1.8)
У Израиля «письмена» – т. е. живой непосредственный религиозный «фольклор», у Церкви «смысл» – т. е. единая цельная концепция. И это то основное отличие, которое лежит в корне всех расхождений между иудаизмом и христианством, и которое сродни, как я уже отметил, отличию философии от филологии.
Конкуренция философии и филологии как двух методов обнаруживается прежде всего при разборе философских текстов. Перевод тех или иных диалогов Платона и трактатов Аристотеля постоянно упирается в дилемму – как правильнее передать текст: исходя из значения отдельного слова понять общий смысл данного пассажа, или напротив, исходя из общего смысла понять, в каком значении употреблены отдельные слова?
Нетрудно заметить, что эта герменевтическая проблема, которую впервые выявил Шлейермахер [22], эквивалентна знаменитому герменевтическому кругу Августина Блаженного: «Верю чтобы понять, понимаю чтобы поверить».
Следует отметить, что этот принцип является сквозным для всей христианской теологии и вообще европейской мысли. Во всяком случае, рассматриваемые выше догмат двойной природы Христа и принцип двойственного статуса понятия «бытие» – полностью воспроизводят логику герменевтического круга.
В интересующем нас аспекте следует отметить, что логика герменевтического круга просматривается в двучленности христианского источника Библии, а именно в его разделенности на два корня – на «ветхий» и «новый» завет. К этому обстоятельству я еще вернусь, а пока отмечу, что пожалуй особенно неожиданно и наглядно принцип «круга» проявился в квантовой теории, в боровском принципе дополнительности. Вкратце напомню, в чем он состоит.