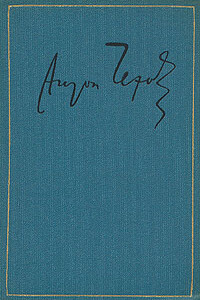Панихида | страница 7
Я взглянул на Володю. Выражение лица у него было такое, каким я себе никогда не мог бы его представить - трагическое и торжественное.
- Служите, батюшка, как в монастыре, - сказал он, - а мы вас поддержим, не собьемся.
Он обернулся к своим товарищам, поднял вверх обе руки повелительным и привычным, как мне показалось, жестом, - священник посмотрел на него с удивлением, - и началась панихида.
Нигде и никогда, ни до этого, ни после этого я не слышал такого хора. Через некоторое время вся лестница дома, где жил Григорий Тимофеевич, была полна людьми, которые пришли слушать пение. Хрипловатому и печальному голосу священника отвечал хор, которым управлял Володя.
"Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе цари и нищие".
И затем опять это беспощадное напоминание:
"Таков живот наш есть: цвет и дым и роса утренняя воистину: придите ибо узрим на гробех ясно, где доброта телесная; где юность; где суть очеса и зрак плотский; вся увядоша яко трава, вся потребишася".
Когда я закрывал глаза, мне начинало казаться, что поет чей-то один могучий голос, то понижающийся, то повышающийся, и его звуковое движение заполняет все пространство вокруг меня. Мой взгляд упал на гроб, и в эту минуту хор пел:
"Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробе лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту - безобразну, бесславну, не имеющую вида".
Никогда панихида не казалась мне такой потрясающей, как в этот сумрачный зимний день в Париже. Никогда я не чувствовал с такой судорожной силой, что ни в чем, быть может, человеческий гений не достигал такого страшного совершенства, как в этом сочетании раскаленных и торжественных слов с тем движением звуков, в котором они возникали. Никогда до этого я не понимал с такой пронзительной безнадежностью неудержимое приближение смерти ко всем, кого я любил и знал и за кого возносилась та же молитва, которую пел хор:
"Со святыми упокой..."
И я думал, что в этот страшный час, который неумолимо придет и для меня, когда перестанет существовать все, ради чего стоило - быть может жить, никакие слова и никакие звуки, кроме тех, которые я слышал сейчас, не смогут выразить ту обреченность, вне которой нет ни понятия о том, что такое жизнь, ни представления о том, что такое смерть. И это было самое главное, а все остальное не имело значения.