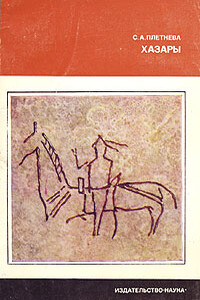Половцы | страница 57
Оба эти сообщения интересны тем, что они свидетельствуют, во-первых, о сохранении первичных бытовых форм существования (в вея?ах со стадами) и, во-вторых, о несомненном появлении и активном использовании оседлых укрепленных поселков (городков), т. е. о появлении какой-то оседлости. С каждым годом все более и более крепли их связи с русским пограничным населением. В Поросье начал складываться быт, характерный впоследствии для казачества. Мужчины были всегда готовы к военным походам, на женщинах же фактически держалась вся экономика, а дети (мальчики) сызмальства воспитывались в духе удальства и всадничества. Связи с русским населением выражались прежде всего в обмене продуктами, получаемыми с основной отрасли экономики (скот меняли на хлеб). Кроме того, из русских городов в вежи шли некоторые предметы ремесленного производства, особенно часто гончарного. В печенежских и торче-ских погребениях Поросья нередко попадаются обычные русские горшки. Безусловно, помимо предметов материальной культуры, «экспортировалось» в Поросье и христианство, однако здесь, среди сплоченных в единый, крепко связанный традициями союз, оно просачивалось тонкими струйками. Об этом свидетельствует устойчиво языческий погребальный обряд, которого придерживались поросские пастухи вплоть до монголо-татарского нашествия.
Иначе обстояло дело с пограничным населением Черниговского и Переяславского княжеств. Кочевники растворились в русском окружающем населении значительно больше: археологически уловить их не удается. По-видимому, подавляющее большинство торков и коуев приняли христианство и их погребения ничем не отличались от русских и располагались на общих кладбищах. Так было, например, на кладбище около Белой Вежи (на Дону), где погребения кочевников помещены среди христианских беловежских и также были христианскими (иначе их не позволили бы совершить на христианском кладбище). Интересно, правда, что, видимо, на всякий случай в одну из могил сунули стремя, в другую (в засыпку) — голову коня, в третью — ноги коня и кое-какие вещички и т. д. Вероятно, и на границах Руси недавние кочевники, хороня своих родственников, делали то же, но христианские кладбища обычно не раскапываются, и поэтому обнаружить аналогичные следы язычества в христианском обряде археологи не могут.
Связанные крепкими вассальными отношениями с феодальным государством, черные клобуки сами быстро феодализировались. Основу их общества у них составляла большая семья (аил), называемая русскими летописцами чадью. В нее входили как кровнородственные члены, так и их слуги из других обедневших семей и даже домашние рабы. Богатые семьи достигали очень больших размеров и превращались, как мы видели выше, в новые этнические единицы. Чадь была не только социальной формой существования, но и в большей степени важнейшей экономической организацией, поскольку вести пастушеское хозяйство было выгоднее большим коллективом. Необходимость таких коллективов усугублялась тем, что все молодые мужчины каждой семьи были всегда обязаны принимать участие в любой войне сюзерена, т. е. у них не было возможности постоянно участвовать в хозяйственной деятельности семьи. Несомненно, существовало сильное экономическое расслоение внутри черно-клобуцкого союза. Оно прекрасно выявляется археологами при анализе инвентаря, обнаруженного в могилах вместе с покойниками. Прежде всего бросается в глаза различие захоронений с останками коня и без них.