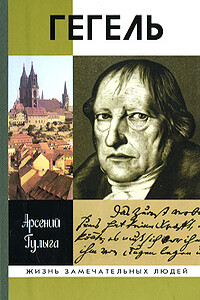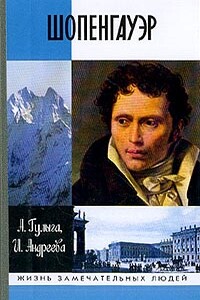Немецкая классическая философия | страница 41
В «Критике чистого разума» Кант провел детальное расчленение познавательных способностей.
Велик соблазн увидеть в этой схеме изображение исторического пути, пройденного познанием. Делать этого, однако, нельзя. И все же, как «лестница существ», возникшая на основе классификации К. Линнея, послужила толчком для исторического взгляда на живой мир, так и кантовская иерархия мышления с ее зачатками историзма подготовила почву для исторического взгляда на сознание.
На схеме зафиксированы только готовые формы знания, а не процесс его обретения и не способ применения. И то и другое (получение знания и его использование) носит интуитивный характер. Считается, что Кант изгнал интуицию из сферы интеллекта, поместив ее целиком в сферу чувственности. На самом деле Кант изгнал только слово, понятие же он расширил и обогатил. Термином «интуиция» Декарт и Спиноза, как и их предшественники, обозначали пассивное непосредственное усмотрение истины. Кант принял такое толкование термина, и поскольку, по его мнению, любое познание активно, термином «интуиция» он предпочитал не пользоваться. Сегодня мы иначе смотрим на интуицию: мы видим в ней непосредственную способность к творчеству. Деятельное начало в интеллекте, которое Кант назвал продуктивным воображением, представляет собой разновидность интуиции.
Помимо образования понятий интуиция нужна еще в одном важном деле — в их использовании. Ученый (как и всякий смертный) должен не только располагать набором общих правил, законов, принципов, но и уметь применять их в конкретных, единичных обстоятельствах. Кант называет это интуитивное уменье способностью суждения.[74] Способность суждения есть отличительная черта так называемой смекалки, и отсутствие ее нельзя восполнить никакой школой, так как школа может дать даже ограниченному рассудку, как бы вдолбить в него, сколько угодно правил, заимствованных у других, но способность правильно пользоваться ими должна быть присуща даже ученику, и если нет этого естественного дара, то никакие правила, которые были бы предписаны ему с этой целью, не гарантируют его от ошибочного применения их. «Отсутствие способности суждения есть, собственно, то, что называют глупостью, и против этого недостатка лекарства нет».