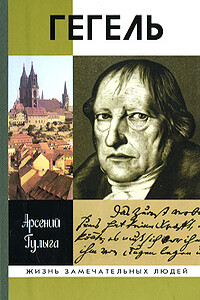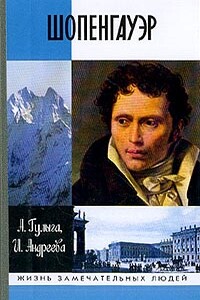Немецкая классическая философия | страница 39
Теория познания Канта помогла приподнять завесу над одним из самых загадочных процессов — образованием понятий. Предшественники Канта заходили в тупик, пытаясь решить эту проблему. Эмпирики настаивали на индукции, опытном «наведении» на некие всеобщие признаки и принципы. Из повседневного опыта мы знаем, что лебеди белые, а вороны черные. Но между прочим, даже житейский рассудок весьма скептически относится к подобного рода всеобщности: выражение «белая ворона» говорит о крайне редком, но все же возможном нарушении привычного порядка вещей; что касается черного лебедя, то он реально существует. А как при помощи индукции, абстрагирования общих признаков объяснить изобретение, создание чего-то нового, ранее не существовавшего — машины или научной теории?
Рационалисты искали иные пути решения проблемы. Они усматривали строгое, не зависящее от человека соответствие между порядком идей и порядком вещей. Мышление они считали неким «духовным автоматом» (выражение Спинозы), который штампует истину, работая по заранее заданной, «предустановленной» (выражение Лейбница) программе. Объяснение было основательным, но имело один существенный изъян: оно не могло ответить на вопрос, откуда берутся ошибки. Показательна попытка Декарта выбраться из этого противоречия. Корень заблуждений Декарт видит в свободной воле: чем менее человек затемняет свет божественной истины, тем больше он застрахован от ошибок; пассивность — гарантия правильности знаний. Для Канта же именно активность познания — залог успеха, Кант, подобно Копернику, решительно порывает с предшествующей традицией. Он видит в человеческом интеллекте заранее возведенную конструкцию — категории, но это еще не само научное знание, это только его возможность. Такую же возможность представляют собой и опытные данные — своего рода кирпичи, которые нужно уложить в ячейки конструкции. Чтобы выросло здание, требуется активный участник строительства, и Кант называет его имя — продуктивное воображение. Если вспомнить, что современная эвристика усматривает в бессознательном воображении главное звено любого научного открытия (изобретения), мысль Канта предстанет перед нами как удивительно актуальная.
В «Критике чистого разума» (и в других работах Канта) мы не встретим термина «бессознательное». Тем не менее идея бессознательного как активного, творческого начала выражена недвусмысленно. Кант говорит о спонтанности мышления. Рассудок благодаря продуктивному воображению сам спонтанно, т. е. стихийно, помимо сознательного контроля, создает свои понятия. «…Способность воображения есть спонтанность…»