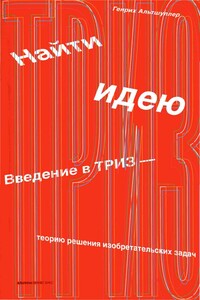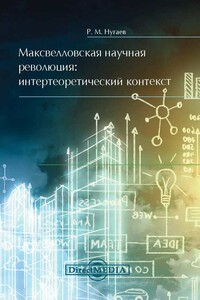Социальное прогнозирование | страница 4
Вообще‑то такой результат предусмотрен теорией прогнозирования и носит название «рецидивы презентизма первобытного мышления». Дело в том, что установлено: первоначально человек долгое время полностью отождествлял настоящее и будущее, т.е. рассматривал любое будущее как бесконечно продолжающееся без каких‑либо существенных изменений настоящее (а раньше для него вообще не существовало прошлого, настоящего и будущего, все было, как и у животных, так сказать, «сиюминутно»). Доказано, что было бы преувеличением утверждать, будто современный человек в данном отношении очень далеко ушел от своего первобытного предка. Нет, он склонен представлять сколь угодно далекое прошлое или будущее в привычных для него чертах настоящего. Давно выяснено, что даже любая фантастика – это всего лишь разные комбинации разных черт привычного земного, и никогда ничего больше. Даже такие порожденные воображением человека «потусторонние миры», как рай или ад, – всего лишь упрощенная проекция представлений о «хорошей жизни» или о «страданиях», как они складывались на основе жизненного опыта в те или иные века. Поговорите о будущем, скажем, о мире XXI века со старшеклассником, студентом, даже с научным работником (не специалистом по прогностике) – скорее всего, вы получите зеркальное отображение нынешнего дня, возможно, чуть идеализированного или, напротив, несколько драматизированного, только и всего. Словом, получите «презентизм».
Опыт показывает, что «презентизм» проходит по мере знакомства с прогностической или хотя бы научно‑фантастической литературой. Вот почему современные респонденты, если можно так сказать, гораздо менее «презентичны», чем 30 лет назад.
Удивил в ответах респондентов не ожидавшийся «презентизм», а нечто другое. При попытке опрашивающего ввести респондента в непривычный мир «иного будущего» почти во всех случаях наблюдалось категорическое неприятие любого будущего, качественно отличного от настоящего. И чем явственнее, радикальнее было качественное отличие – количественное воспринималось довольно легко, – тем категоричнее было неприятие, враждебное отношение. Такая позиция была четко зафиксирована и по рабочей, и по учащейся молодежи, а также по молодым научным сотрудникам (подчеркнем, что опрос проводился в Дубне – элитном научном городке тех времен: более отзывчивую по части проблем будущего, достаточно широкую аудиторию трудно было отыскать). Словом, опрос оказался безрезультатным, и мы вынуждены были от него отказаться.