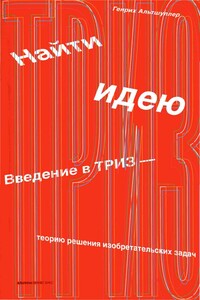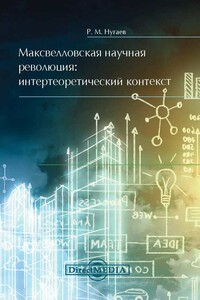Социальное прогнозирование | страница 11
Ясно, что при таком умонаправлении в обыденном сознании не мог не закрепиться устойчивый стереотип неприятия практически любого «иного будущего», как мы уже говорили, стремление уподобить до мелочей любое сколь угодно далекое прошлое или будущее привычному настоящему. В свою очередь, раз возникнув, подобный стереотип уже чисто дедуктивно отметал с порога любые нововведения, так что эффект неприятия нового многократно усиливался.
Очерченное умонастроение изначально обрекало человеческую мысль на застой и в зародыше отталкивало идеи, способные породить нововведения. Если бы в обществе существовали одни лишь эти силы, оно неизбежно было бы обречено на стагнацию и быструю погибель. К счастью, однако, мы знаем, что для человеческой личности характерна потребность в самоутверждении не только путем слепого следования сложившимся стереотипам, но и путем реализации социальных потребностей в успехе своей деятельности, в достижениях, в непрестанном улучшении, рационализации труда, быта, досуга, всех условий жизни и форм жизнедеятельности, в новизне, оригинальности своей деятельности, а также в творческом труде, в лидерстве, в критике деятельности других, в новых знаниях и т.д. Когда обе эти противоположные силы более или менее взаимно уравновешивают друг друга, катастрофического коллапса не наступает, но и интенсивность нововведений близка к нулевой, что мы и наблюдаем на всем протяжении человеческой истории, вплоть до самых недавних времен. Ныне инновационные силы делаются все мощнее, в результате – соответствующий сдвиг в сторону нарастания темпов и масштабов нововведений.
Заметим, что энергичными носителями инновационных сил, по причине самого характера нововведений, почти всегда является относительное меньшинство населения, зачастую всего лишь отдельные личности или даже только одна‑единственная личность. (В принципе инновационный потенциал в той или иной степени свойствен каждому или почти каждому человеку, но почти у всех он подавляется господством привычных стереотипов, о которых мы упоминали выше.) И если сегодня один новатор или ничтожная горстка новаторов все чаще оказываются в состоянии свернуть гору рутины и «пробить» свое новшество, то только потому, что они опираются на инновационные механизмы – рычаги реализации нововведений.
Существует и еще одна сторона органического неприятия нововведений обыденным сознанием, переходящего в близкое к инстинктивному отвращение ко всякому «иному будущему». Это сторона, по нашему мнению, связана с историческим опытом человечества, каковой недвусмысленно свидетельствует: на всем протяжении истории человеческого общества, с древнейших времен до наших дней на сто или даже тысячу благих идей, сулящих разные блага в случае реализации соответствующих нововведений, обычно лишь одна оказывается действительно конструктивной, да и то не так, как представлялось ее первоначальному генератору, а так, как это объективно реализовалось впоследствии, зачастую очень непохоже, порой прямо противоположно замыслу инициатора. Что ж, таков путь прогресса. Что касается остальных, то они на поверку оказываются либо пустоцветными, нереальными, либо, что еще хуже – социально опасными, вредными, гибельными, теми самыми благими намерениями, которые, как известно, ведут в ад.