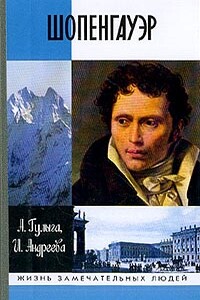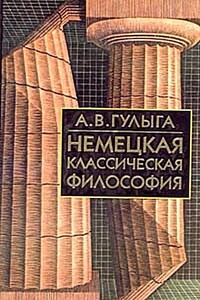Гегель | страница 29
Гегель говорил о своей радости по поводу того, что господин проректор и господин декан украсили своим присутствием этот торжественный для него акт, благодарил августейшего монарха за покровительство наукам, благодарил факультет и всех собравшихся за внимание к его труду.
Габилитационный диспут, в результате которого магистру философии Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю было предоставлено право читать лекции, состоялся 27 августа 1801 года, в тот день, когда ему исполнился тридцать один год.
После защиты Гегель садится за диссертацию. В его распоряжении была обширная рукопись по астрономии, написанная, по-видимому, еще до приезда в Иену. Ее нужно было сократить и перевести на латинский язык.
Проходит месяц, однако диссертация на факультет не представлена. О ней как будто забыли. Заведующий кафедрой логики и метафизики знакомый нам Хеннинга визирует лекционный план Гегеля. Потом вдруг спохватывается (видимо, это произошло не без участия недругов вюртембержца). 18 октября он пишет возмущенное письмо декану: «Я не знал, что господин доктор Гегель до сих пор еще не представил диссертации, поэтому поставил свою визу» ; Хеннингс требовал немедленно принять меры: «Вы можете без церемоний аннулировать лекционный план Гегеля, потому что все достигнуто хитростью». В тот же день на столе декана появляется брошюра «Об орбитах планет. Философская диссертация».
Диссертация, как и другие работы Гегеля того периода, выдержана в критических тонах. Ее пафос — обличение механицизма и эмпиризма, носителем которого Гегель считает Ньютона. Английскому физику Гегель противопоставляет Кеплера, который, как кажется Гегелю, не расчленяет природу, а старается осмыслить ее как некое целое. Современному читателю многое из того, что утверждает Гегель, может показаться просто комичным. Беда механики, по мнению молодого философа в том, что «она ничего не смыслит в боге». Гегель убежден, что тяжесть, под влиянием которой камень- падает на землю, совершенно отлична по своему характеру от той, которая действует в звездах и особенно в небесных телах, принадлежащих нашей солнечной системе и отнюдь не падающих на Землю. По поводу яблока, которое навело Ньютона на мысль о всемирном тяготении, он говорит, что это дурное предзнаменование, ибо яблоки уже дважды послужили началом бедствия — для всего человечества (яблоко Евы) и для народа Трои (яблоко Париса).
В свое время Сократ отвлек внимание философии от изучения неба и приковал ее к земному, к человеку. Теперь для философии наступила пора вознестись к небесам и познать законы, управляющие движением светил. В частности, философия может быть полезной в решении одной спорной проблемы. Речь идет о закономерности, идея которой высказана астрономом Тициусом. Если взять ряд чисел - 0, 3, 6, 12, 24 и т.д. и прибавить к каждому из них число 4, то, согласно Тициусу, мы получим числа, выражающие относительные расстояния планет от Солнца. Этот эмпирический закон, казалось, получил подтверждение после открытия Гершелем в 1781 году планеты Уран. Опираясь на закон Тициуса, астрономы высказывали предположение, что между Марсом и Юпитером должна быть не открытая еще планета. Поиски ее начались сразу же после открытия Урана. Гегель считал их бесплодными, а сам закон Тициуса в силу его чисто эмпирической природы, не соответствующим действительности. Он предложил пользоваться другой закономерностью, восходящей к пифагорейцам, —1,2,3,4,9,16 и т. д. «Если этот ряд более соответствует истинному порядку природы, — писал Гегель в диссертации, — чем вышеупомянутая арифметическая прогрессия, то ясно, что между четвертым и пятым местом имеется большой незанятый промежуток и что там нечего искать планету». Между тем уже 1 января 1801 года астроном Пиацци в обсерватории Палермо открыл первую из числа малых планет — Цереру, расположенную между Марсом и Юпитером. Впоследствии это обстоятельство послужило поводом для многочисленных шуток и даже нападок на диалектику Гегеля.