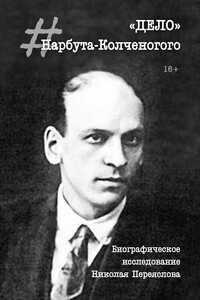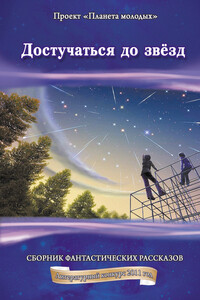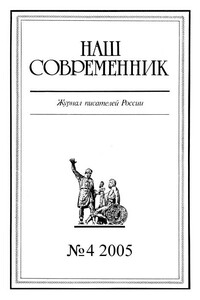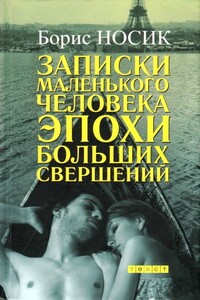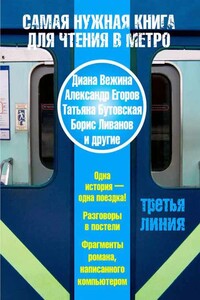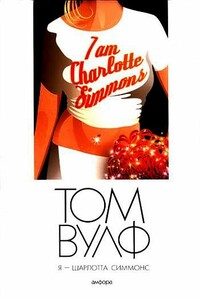Мой дедушка застрелил Берию | страница 6
Думается, что не так уж и глуп был Никита Сергеевич, как это иногда казалось окружающим. Да и остальные члены Президиума понимали, что живой Берия — под какой бы охраной он ни содержался! — это тлеющая пороховая бочка под каждым из них, а потому, скорее всего, и не было никаких шести месяцев следствия и никакого суда с предоставлением последнего слова подсудимому. Какое там ещё последнее слово, зачем?! «...Дальнейшее расследование дела Берии полностью подтвердило, что расстреляли его правильно...»
О том, что К. С. Москаленко был отнюдь не рядовым участником всей этой операции, косвенно говорит и тот факт, что 25 декабря, то есть через день после официально заявленной даты приведения в исполнение приговора в отношении Берии, он был вызван к министру обороны Булганину, и тот предложил ему написать наградную реляцию на пятерых участников той, полугодовой давности, акции в Кремле для присвоения каждому из них звания Героя Советского Союза (при этом сам Москаленко становился бы уже дважды Героем). Однако дедушка мой категорически отказался это сделать, мотивируя свой отказ тем, что он просто выполнял свой долг. Булганин настаивал, говоря: «Ты не понимаешь, не осознаешь, какое большое, прямо революционное дело вы сделали, устранив такого опасного человека, как Берия», и когда Москаленко отказался вторично, предложил написать реляции для награждения их орденами Красного Знамени или Красной Звезды.
Почему же, задаю я себе вопрос, написать наградные реляции было предложено не старшему из всех по должности и званию — заместителю министра обороны СССР маршалу Г. К. Жукову, тоже, как он говорил, принимавшему активное участие в аресте Берии и даже, по некоторым источникам, лично выкручивавшему ему руки за спину и производившему обыск, или, скажем, не тому же генерал-полковнику П. Ф. Батицкому, коли уж он был обозначен в официальном акте как исполнитель приговора, а — именно ему, Москаленко? Не было ли это, с одной стороны, благодарностью за его особую роль в этой весьма непростой и опасной операции, а с другой — своего рода компенсацией за сокрытие этой самой роли и передачу его славы П. Ф. Батицкому?
К сожалению, мне самому так за всю жизнь ни разу и не довелось встретиться с Кириллом Семеновичем и задать ему интересующие меня сегодня вопросы. Да и кто был тогда он, и кто — я? Сначала все думалось — вот приеду в Москву, поступлю в институт, стану студентом столичного ВУЗа, потом будет не стыдно и к именитому дедушке заявиться... А потому, окончив в 1971 году вечернюю школу и заработав себе на одной из шахт три года стажа и немного денег (несколькуо позже, правда, выяснится, что ещё и радикулит, но это по молодости было как бы не в счет), я приехал в Москву и действительно поступил на дневное отделение Московского Горного института на факультет подземной разработки угольных месторождений в группу ТПУ-1-73. (Помню, попав в начале второго курса на сельскохозяйственные работы под Коломной, мы ещё пели тогда на мотив знаменитой в те годы рок-оперы «Jesus Christ — superstar» пересочиненные под себя строчки: «В магазин, в магазин — дружно идет ТПУ-1». Хотя, если говорить честно, то уж какой там был тогда поход в магазин, если за месяц работы в поле нам всего единственный раз выдали аванс, да и то — ровнехонько по два рубля, которых нам едва хватило, чтобы купить себе по пачке махорки да по 750-граммовой бутылке дешевого плодо-ягодного вина.)