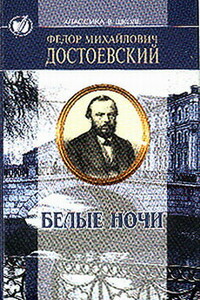Подросток | страница 5
«Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация», — утверждает Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год, как бы подытоживая и продолжая проблематику «Подростка». В обществе, неспособном выработать такую идею, и рождаются десятки и сотни идей для себя, идей личного самоутверждения. Ротшильдовская (буржуазная по сути) идея власти денег тем и притягательна для неимеющего незыблемых нравственных оснований сознания подростка, что она для своего достижения не требует ни гения, ни духовного подвига. Она требует, для начала, лишь одного — отказа от четкого различения грани добра и зла.
В мире разрушенных и разрушаемых ценностей, относительных идей, скептицизма, и шатания в главных убеждениях — герои Достоевского все-таки ищут, мучась и ошибаясь. «Главная идея, — записывает Достоевский еще в подготовительных тетрадях к роману. — Подросток хотя и приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе…»
Без высшей идеи жить невозможно, а высшей идеи у общества-то и не оказалось. Как говорит один из героев «Подростка», Крафт, «нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было… Нынешнее время… это время золотой середины и бесчувствия… неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею… Нынче безлесят Россию, истощают почву. Явись человек с надеждой и посади дерево — все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут, только бы с них достало…»
Вот это-то духовное (точнее бы сказать — бездуховное) состояние «постоялого двора» и навязывают юному, ищущему твердые основания жизни, подростку готовые идеи, вроде его «ротшильдовской» идеи, и притом — как свои, рожденные как бы его собственным опытом жизни.
В самом деле, реальная действительность этого мира нравственного релятивизма, относительности всех ценностей рождает в подростке скепсис. «Да зачем я непременно должен любить моего ближнего, — не столько пока утверждает, сколько пока провоцирует на опровержение своих утверждений юный Аркадий Долгорукий, — любить моего ближнего или ваше там человечество, которое обо мне знать не будет и которое в свою очередь истлеет без следа и воспоминания?..» Вековечный вопрос, известный еще с библейских времен: «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после… ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?»