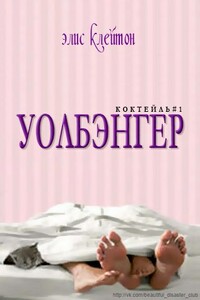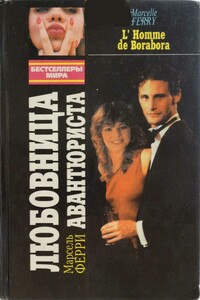Планы на ночь | страница 129
И я подумала тогда, Мань: интересно девка рассуждает, заковыристо. Пробудила ты во мне настоящий интерес после фильма этого. Знание в тебе какое-то было, неподвластное мне. Как будто ты сама на этих шпалах лежала. А ведь не было еще с тобой ничего такого. Чистота и непорочность. И вывих при этом какой-то в мозгах. А рельсы и шпалы ровненько, в ряд…
Так что, интерес к тебе, Маня, все это время был у меня не совсем бескоростный. Познавательный интерес. И, прожив с тобой рядом большую и счастливую жизнь, я вдруг стала задаваться вопросом: а он как же, Вронский? То есть Микки Рурк? То есть вообще мужик как он есть? С психологией женщины, в самом глубинном смысле этого понятия, все как бы стало проясняться. И представь, Маня, это мне последнее время не дает покоя. Чего они, мужики, при этом чувствуют? И чувствуют ли они вообще?
— Вопрос конечно интересный, — сказала я, трезвея и мрачнея от этого. — Спасибо, во-первых, тебе за правду.
— На здоровье. А во-вторых?
— Я думаю, Юля, мужик, он тоже все понимает. Он же не дурак. Он видит, как барышня вязнет по самую что ни на есть, и решает попользоваться ею на всю катушку. Не со зла, а от боли собственной, прежней. Потому что кураж такой нашел. Потому что она, утопая, за него держится. И он нехотя, медленно поддается ей и идет за ней вглубь, играя, искрясь, фантазируя. А она ползет к нему на коленях — только не оставь, только не уходи. А мужики этого не любят, они же, ё-мое, охотники. А тут жертва сама на все согласная.
И самое смешное в этом, Юль, что он, в фильме-то, ее тоже любил. Любил. И был исключительным по-своему. Помнишь, как он ей говорил? Я хочу о тебе заботиться. Можешь себе представить? У нас же в стране эту фразу ни один мужик до конца выговорить не сможет. Только до половины. «Я хочу…» И все! А дальше по прайсу: «Я хочу есть, я хочу пить, я хочу спать». А уж если вдруг «я хочу тебя» — все! Нирвана наших дней, сбыча мечт, высший пилотаж! Как же! Он сказал: «Поехали!» — и махнул рукой! И тут уж ты расстараешься, чтобы оправдать, угодить, не ударить в грязь лицом — и вдоль по Питерской вприсядку.
И чего, казалось, бабе не хватало? Одевал, обувал, посуду мыл. И пустяка какого-то требовал: послушной быть и разнообразной. А разнообразия всякие он сам и придумывал. Но тот фокус с лесбиянкой совсем ее добил.
Хотя нет, сломалась она раньше. Помнишь, Юль, там художник один был, талантливый очень. И она его открыла, и хотела, чтоб и все о нем узнали. Устроила выставку, вытянула его из глуши какой-то деревенской. Короче, тусовка, пати, вернисаж. Народ отрывается, жрет, пьет. И всем, по большому счету, глубоко наплевать и на художника этого и тем более на его картины. И он сидит в углу один, использованный, затраханный и никому не нужный. И она смотрит на него и понимает, что она такая же, как и он. Что ее так же, со всей любовью и во все места, не спрашивая, не думая, не подозревая. И никому нет дела до того, как ей чувствуется, как можется, как переживается. Потому что это не жизнь, а рок. И надо бежать, спасаться, хватать себя за волосы и вытягивать из этого болота. И она уходит — как на рельсы бросается. Что там дальше? Бог весть.