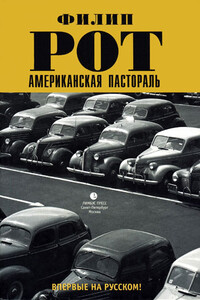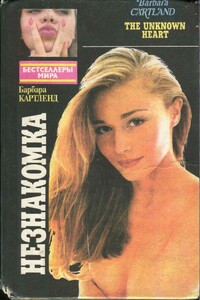Мой муж – коммунист! | страница 36
Айра рассказывал мне о том, что обсуждалось на профсоюзных собраниях: «Обычно всякая лабуда вроде перезаключения коллективного договора, проблема прогулов, ссоры из-за места на парковке, слухи об угрозе войны между США и Советским Союзом, расизм, миф о том, будто бы с увеличением зарплат непременно сразу вырастут цены» – и так далее и тому подобное; он говорил и говорил, а я не мог наслушаться, причем не только потому, что в мои пятнадцать-шестнадцать мне так уж непременно хотелось знать все то, с чем сталкивается рабочий, как он говорит, действует и думает. Главное, что, даже когда он уехал из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы работать на радио, и прочно укоренился как Железный Рин из программы «Свободные и смелые», он и теперь, вспоминая о фабрике и профсоюзных собраниях, говорил на том же полном неодолимого обаяния языке, что его тогдашние товарищи-рабочие, говорил так, будто по-прежнему каждое утро должен вставать и идти на фабрику. Точнее, каждый вечер, потому что на фабрике он довольно скоро перевелся в ночную смену, чтобы днем быть свободным и заниматься «миссионерством», под которым, как я впоследствии понял, разумел вербовку новых членов Коммунистической партии.
О'Дей сагитировал Айру вступить в партию еще во времена, когда они работали в иранских доках. Хотя я, не в пример тогдашнему Айре, не был таким уж бедным заброшенным сиротиной, однако, подобно тому как Айра был идеальной мишенью для О'Дея, так и я являл собою идеальную мишень для агитации Айры.
Однажды, первой своей зимой в Чикаго, он принимал участие в сборе денег для профсоюза (мероприятие было приурочено ко Дню Вашингтона и Линкольна,[7] и тут кому-то пришла в голову идея превратить Айру – жилистого, большеногого гиганта с шишковатыми локтями и коленями, жесткими, по-индейски темными волосами и валкой небрежной походкой – в Эйба Линкольна: приклеить ему усы, надеть шляпу-цилиндр, высокие башмаки на пуговицах, старомодный, дурно сидящий черный сюртук и поставить у лекторской кафедры, чтобы он зачитывал те места из дебатов Линкольна с Дугласом, где содержатся самые красочные проклятия по адресу рабовладения. И у него так здорово это пошло, он сразу так насобачился придавать слову «рабство» рабоче-крестьянское, злободневно-политическое звучание, что с ходу продолжил, продекламировав то единственное, что толком ему запомнилось из всех девяти с половиной лет обучения в школе, а именно Геттисбергскую речь. Весь зал просто взорвался от того, как произнес он ее финал: последняя, неколебимо-решительная фраза прозвучала так, как ничто и никогда не звучало ни на земле, ни в небесах от самого начала мира. Воздев свою длинную, волосатую, по-обезьяньи гибкую ручищу, он трижды вонзал невероятно длинный палец чуть ли не прямо в глаз профсоюзной своей аудитории и трижды драматически понижал голос, с хриплым придыханием выговаривая слово «народ»: