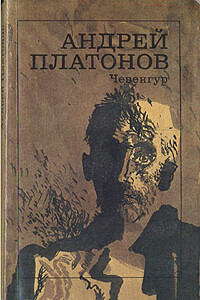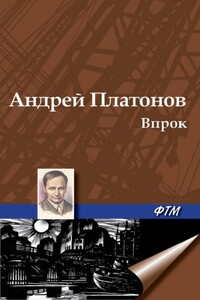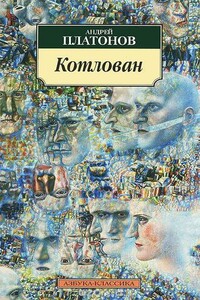Размышления читателя | страница 12
Отношения человека и природы Платонов понимал динамически и исторически конкретно — в обществе природа является звеном, посредством которого осуществляются социальные связи человека. В процессе человеческой истории природа становится человеческой, или, как говорил Платонов, происходит одухотворение мира. Герой повести Вэша Куоннезина («Исчезающая граница»), о которой в 1941 году пи- сал Платонов, бежит от капиталистической цивилизации в природу, бежит в поисках «страны непуганых птиц и зверей». Однако на этом пути нет и не может быть удачи — это движение назад. Потребовалось много времени и много событий, прежде чем герой начал другое движение, «медленное внутреннее продвижение в действительную страну непуганых птиц и зверей, в ту страну, которую создает человек своим творчеством, а не в ту, о которой он только мечтает по-детски». Узкоутилитарное, эгоистическое миропонимание рушится, и тогда человек осознает себя в огромном мире, осознает свою связь с этим миром, свою власть над ним и свою ответственность. Открывается новое ощущение себя в мире, где все — и человек, и животное, и неодушевленная природа, и вся вселенная — охвачено общим, единым ритмом жизни. Это чувство всепроникающей связи и есть источник творчества человека, творчества как «элемента этой связи».
Но так ли однозначно толкуется «всеобщая связь всего живого»? Не следует ли более решительно и определенно подчеркнуть социальный аспект этих связей? В романе Р. Олдингтона «Сущий рай» тоже много говорят об «огромной пряди жизни, которая прялась тысячу миллионов лет». И герои романа, и сам автор как бы забывают о том, что «прядь жизни» давно уже прядется не только природой, но и руками миллионов трудящихся людей. Природа здесь как бы выпадает из социальных отношений, она холодно и равнодушно противостоит человеку. Противостоит как укор и как арбитр человеческой судьбы. И Платонов возражает Олдингтону: «Природа нас не рассудит, у нее другое назначение, и обращаться к ней для решения наших, сугубо человеческих дел не только бессмысленно, но и печально». Путь от амебы к человеку (все та же «прядь жизни») есть путь бессознательный, движение же человека в истории есть дело его рук, его воли, его разума. «Для социалистического человека, — писал К. Маркс, — вся так называемая всемирная история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом, становление природы для человека…»[4]
Поэтому иллюзии Р. Олдингтона, его надежды преобразовать мир на разумных основаниях вне и независимо от народа, усилиями «бедного, одинокого» сознания вызывают резкое осуждение Платонова. Особенно неприемлемы для него проникнутые экзистенциальным стоицизмом слова Криса (героя романа) о том, что если попытки преобразовать мир и не принесут нужных результатов, то останется радость самой попытки. «Крис (и, может быть, Олдингтон) не предполагает, насколько чуждо большим человеческим массам такое спортсменско-эстетское отношение к своей жизни и к истории. Люди живут не в шутку, чтобы допустить неудачу своих надежд и усилий; если даже неудачи бывают, то человечество, терпя великие жертвы, ищет и находит выход к удаче…» Это суждение верно и своевременно в наши дни.