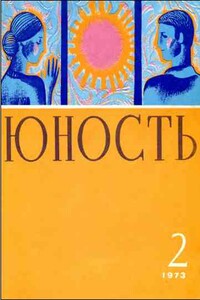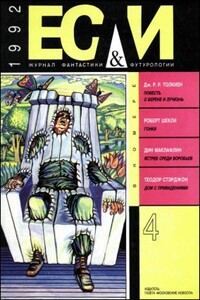Юность, 1973-03 | страница 14
Иван сделал кружок по садику, шлепая ботинками по мокрой земле, потом остановился, чтобы не слишком пугать соседей дуростью своего поведения. Однако он не удержался и решил испытать себя. Сделал стойку на недокрашенной скамейке. Руки дрожали, ходили ходуном на скользком дереве; лишь несколько секунд он и выстоял.
И снизу вверх он увидел мокро блестящие голые ветки с выскочившими невесть откуда почками, белое без облаков небо, и в это мгновение, стоя головой вниз, он вдруг впервые за это время — с того самого момента, как заполнил бегунок, сдал ватник и сапоги и получил свою дезинфицированную полузабытую одежонку, с того самого момента, как вышёл за зону и стал голосовать, ловя попутную до города впервые он физически ощутил, что свободен, свободен, освободился. Не на сегодня, не на завтра, не на декаду, не на месяц, на веки вечные, до конца своих дней ос-во-бо- д и л — с я!
Он лег на скамейку, ощутил голой спиной мокроту, холод. Увидел снова, спокойно, радостно деревья, голые ветки с клейкими, сморщенными узелками. Он закурил блаженно и сказал себе так, чтобы никто не слышал, но достаточно громко:
— Все нормально, капитан! Все нормально! Порядок в танковых частях! Дела наши идут хорошо!
Самочувствие на сегодняшний день от-лич-ное!
— А я все видел, — раздался высокий незнакомый голос.
Иван мгновенно вскочил.
— И как вы сами с собой разговаривали и как вниз головой стояли.
Иван увидел физиономию своего брата, подглядывавшего за ним из окошка своей комнаты. От волнения брат даже перешел на «вы»,
— Это я зарядку делаю, — сказал Иван. — Так положено.
— А голый зачем, и вниз головой, и на мокрой скамейке?
— Вот именно так и нужно, — сказал Иван без особой уверенности. — Для закалки.
— А-а, понял, — сказал мальчик. — Это специально такая зарядка пограничная. Чтобы долго в мокрой траве лежать, в засаде.
— Вот точно, — сказал Иван, удивляясь, как все это у мальчика логично складывается. — А ты чего не спишь?
— А я боялся, что встану, а вы уйдете.
— Куда ж я от тебя уйду? — сказал Иван,
Иван вернулся в дом, теплый после свежести сада.
Он долго мылся до пояса, хотя вчера мать успела ему истопить баньку. То, что он мог так мыться, не торопясь, не в очередь, свежим мылом с твердыми от новизны углами, а не обмылком, то, что он мог растереться махровым чистым полотенцем и от души побрызгаться одеколоном после бритья (одеколоном, недоступным там для этой цели по причине «употребления внутрь»), — все это доставляло ему необыкновенное, много лет не испытанное наслаждение, почти счастье.