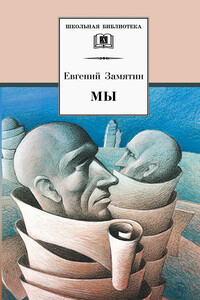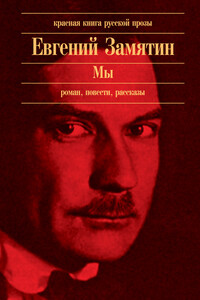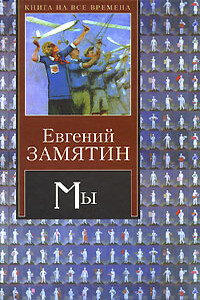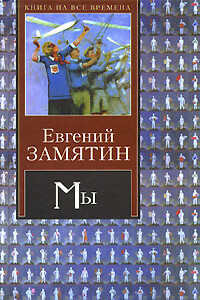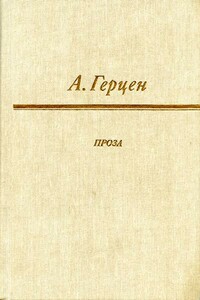На куличках | страница 35
Тихмень морщился.
— Ну, есть, а тебе на что?
— А мы нынче за обедом печенку с'едали, а мы за обедом…
— А мы за обедом… а мы за обедом… — запрыгали, захлопали, заорали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел капитан, вскочил, закружился с ними, — все равно, чьи они: капитановы, ад'ютантовы, Молочковы…
Потом все вместе играли в кулючки. Потом составляли лекарства: капитан и ведьмята — доктора, Яшка Ломайлов — фершал, а Тихмень — пациент… А потом уж пора и спать.
Так и остался Тихмень на бобах: опять ничего не узнал.
16. Пружинка
Нарочно, смеху для, распустил Молочко слух, что генерал вернулся из города. И Шмит на этом поймался. Сейчас же закипел: иду!
Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничек. Положил на подзеркальник, позвал Марусю
— Пожалуйста, погляди вот — чистый? Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь, у нас ничего теперь нету.
Узенькая — еще уже, чем была, с двумя морщинками похоронными по углам губ, подошла Маруся.
— Покажи-ка? Да, он… да, пожалуй, еще годится…
И, все еще вращая воротничек в руке, глаз не спуская с воротничка — сказала тихо:
— О, если бы не жить! Позволь умереть… позволь мне, Шмит!
Да, это она, Маруся: паутинка — и смерть, воротничек — и не жить…
— Умереть? — усмехнулся Шмит. — Умереть никогда не трудно, вот — убить…
Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звонкой земле шел — земли не чуял: так напружены были в нем все жилочки, как стальные струны. Шел злобно-твердый, отточенный, быстрый.
Ненавистно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, ненавистно-сияющий генеральский Ларька.
— Да их преосходительство и не думали, и не приезжали вот ей-Боженьку же, провалиться мне.
Шмит стоял упруго, готовый прыгнуть, что-то держал наготове в кармане.
— Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами поглядите…
И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.
«Если открывает — значит нету, правда… Вломиться — и опять остаться в дураках?»
Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад даже прянул и глаза зажмурил.
Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя сдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побежал в казармы — почему, и сам того не знал.
В казарме — пусто-чистые из бревен стены. Все были там, за пороховым погребом, — что-то никому не ведомое устраивали к генеральшиным именинам. Один только дневальный сонно слонялся, — серый солдатик, все у него серое: и глаза, и волосы, и лицо — все, как сукно солдатское.