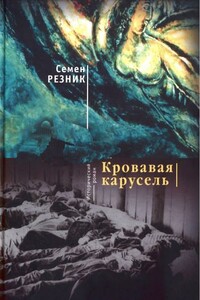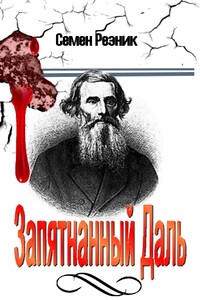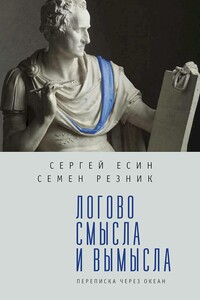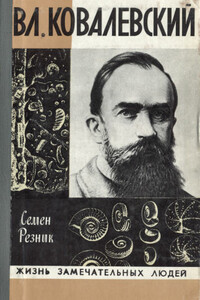Николай Вавилов | страница 28
«В ней много нового и интересного. Автор — геолог и, производя исследования в Сирии и Палестине, нашел целые поля дикой двузернянки и дикого ячменя. Эта двузернянка признается всеми авторами за родоначальника пшеницы.
<…>Я выписал эту брошюру, но она придет месяца через 1,5–2, и тогда пошлю тебе ее с переводом, так как в ней очень ценное — фотографии. Попробую написать Aaronson'y письмо, не вышлет ли двузернянку»*.
Впоследствии выяснится, что дикая двузернянка — слишком далекая родственница культурных пшениц и родоначальницей их служить не может. Вавилов с иронией напишет о богатой восточной фантазии Аронсона. И если пока он с излишней доверчивостью принимает его выводы, то, во-первых, потому что они признаются «всеми авторами», а во-вторых, он делал лишь первые самостоятельные шаги в науке, и удивительно ли, что первые шаги оказались не очень верными? Зато направление, в котором он их делал, было выбрано с поразительной точностью. Не случайно же, скороговоркой сообщая в письме об обширной литературе, которую приходится ему осваивать в библиотеке Бюро, он подробно останавливался лишь на брошюре Аронсона.
Как видим, он не стал ждать, пока освободится Фляксбергер и ответит на его наиболее серьезный вопрос. И правильно сделал. Потому что, если позднее ему и удалось побеседовать с Константином Андреевичем о мучившей его проблеме, то он мог узнать лишь, что невозмутимый ум «заведующего пшеницей» этот вопрос никогда не беспокоил. Зачем ему, «чистому» ботанику-систематику, предаваться сомнительным спекуляциям? Зачем пускаться в воображаемые путешествия вглубь тысячелетий, гадать, как и почему возникали разнообразные формы пшеницы? Разве мало ему возни с остями да пленками? Таков примерный смысл ответа, который Николай мог услышать от Фляксбергера. И еще — предостережение юному коллеге. Ученому не пристало заниматься гаданиями. Только факты, строго проверенные. И чрезвычайная осторожность в выводах…
Покончив с пшеницей, Вавилов принялся за ячмень — в «синем» кабинете Роберта Эдуардовича Регеля. Потом за овес — в «зеленом» Литвинова. Потом за сорняки — у Александра Ивановича Мальцева, человека резкого, порывистого, «с всегда горячим, повышенным тоном речи», как писал о нем Пангало.
Вавилов переходил из одного кабинета в другой, в библиотеке — от одного раздела каталога к другому.
И все время чувствовал за спиной недовольство Регеля.
«Маленькую черточку, а м. б., она и очень крупная в Бюро прикладной ботаники, отмечу — это резкая дифференциация труда <…> работа имеет, пожалуй, форму фабричного, точнее — капиталистического предприятия. Этим объясняется большая продуктивность Бюро. Лозунг здесь „Спасение в специализации“. Больше чем одно растение (пшеница, овес, ячмень) один человек не может охватить. Моя комната рядом с регелевской, и я сижу и слышу каждый день этот лозунг, который Регель повторяет при каждом удобном случае, и выслушиваю анафемствование „энциклопедизму“. Идеал работника Регеля — это скромный, трудолюбивый, аккуратный сотрудник, специализировавшийся, ну, например, на определении пленчатости ячменя.