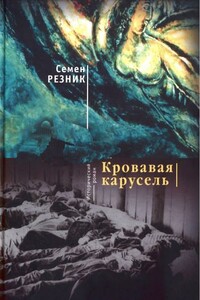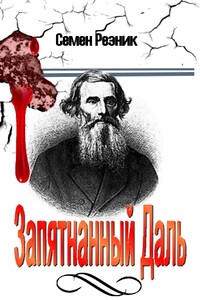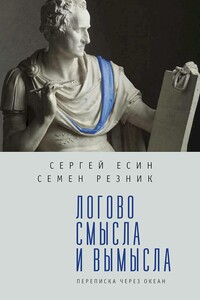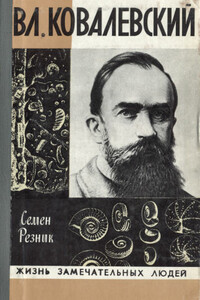Николай Вавилов | страница 19
В пользу серьезности доклада Вавилова говорит также то обстоятельство, что зачитан он был на том же заседании, что и доклады профессора Н. М. Кулагина — «Зоология после Дарвина» и руководителя селекционной станции Д. Л. Рудзинского — «Дарвинизм и искусственный отбор». Эти интересные сообщения могли быть заслушаны лишь в подготовленной аудитории. Если на том же вечере был зачитан доклад кружковца, значит он того заслуживал…
Занятия в кружке и на кафедрах, уроки английского языка, которые берет Николай, поглощают все его время.
Он постоянно занят. Его «рвут на части» товарищи, преподаватели, профессора. У него появляются черточки, характерные для «типичного» жреца науки: бросающаяся в глаза сосредоточенность и, конечно же, доводящая до анекдотов рассеянность. Профессор Л. П. Бреславец вспоминала, что в день своего знакомства с Николаем — произошло это в столовой Петровки — за обедом Вавилов вдруг пристально посмотрел на товарищей, засмеялся и побежал к столу выдачи. «Оказывается, он увидел, что мы едим котлеты, а он после супа сразу принялся за мороженое».
Это воспоминание — о днях, предшествовавших XII съезду русских естествоиспытателей и врачей, который проходил в Москве с 28 декабря 1909 года по 6 января 1910 года. Николай Вавилов участвовал в работе съезда сразу в четырех секциях — химии, ботаники, агрономии и географии, этнографии и энтомологии. Его научные интересы, в сущности, еще не устоялись. Но с какой хорошей жадностью он шел в науку!
Собрание виднейших представителей отечественного естествознания, среди которых были Анучин, Стебут, Прянишников, Вернадский, произвело большое впечатление на Вавилова. Здесь же, на съезде, он познакомился с директором Полтавского опытного поля, только что преобразованного в опытную станцию, Сергеем Федоровичем Третьяковым.
Усатый толстощекий здоровяк, похожий на Тараса Бульбу, Сергей Федорович был бесконечно предан опытному делу. Он сразу понравился Николаю, и симпатия эта оказалась взаимной. Вскоре Третьяков принимал у себя на Полтавщине Николая Вавилова и его друзей-практикантов. На всю жизнь запомнил Николай «старый хутор, заросли терновника, старую лабораторию <…> милых Сергея Федоровича Третьякова и Надежду Михайловну».[6] Запомнил «опытнопольский энтузиазм; бодрость, которой веяло с опытного поля <…> частые экскурсии, беседы».
Первые опытные поля — инициатива в их создании принадлежит Дмитрию Ивановичу Менделееву — появились в России в 1867 году. Тогда же начала функционировать основанная двумя годами раньше Петровская сельскохозяйственная академия. Совпадение не случайное. Потребность поднять науку о земле на новый уровень Д. И. Менделеев усматривал в том «перевороте в сельском хозяйстве, который произошел у нас в России с переменой крестьянского быта. С этим возродилась необходимость поставить наше сельское хозяйство совершенно иначе, чем то было прежде».