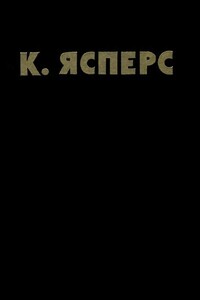Стриндберг и Ван Гог | страница 46
Как это ни поразительно, но существуют такие болезненные процессы, которые не «спутывают», не являются в грубом смысле слова разрушающими, а вызывают собственно «сумасшествие». Известные, явно проявляющиеся заболевания мозга воздействуют на психику человека, как удары молотка на часовой механизм: они производят хаотические разрушения; рассматриваемые процессы, в отличие от них, воздействуют так, как если бы часы подверглись какой-то сложной модификации и пошли иным, непредсказуемым образом — так, что можно было бы сказать: «часы сошли с ума». Высокий и неомраченный ум, если он не способен естественно устранить обманы чувств и бредовые переживания, все же мог бы — так представляется — сделать безвредными их последствия, так что эти первичные явления не имели бы никакого значения, и личность не оказалась бы фактически изолированной в своем обособленном мире. Однако вместо этого человеческий ум поступает на службу безумию—тому непостижимому новому элементу, который вместе с болезненным процессом вторгается в жизнь человека. Между специфическими феноменами, возникающими в связи с шизофреническим процессом, и нешизофренической психикой нет никаких переходов. Явления, внешне, быть может, куда более броские, например, явления истерического характера, в сравнении со многими шизофреническими феноменами вроде тех, что наблюдались у Стриндберга, неопытному глазу на первый взгляд могли бы показаться, быть может, куда более «сумасшедшими». Тем не менее истерические проявления суть лишь вариационные крайности того, что, в зачатке, скрыто присутствует в каждом человеке. Многое в шизофреническом процессе мы можем попытаться прояснить для себя сравнением с собственными переживаниями, но это и будет лишь попытка, ибо нельзя забывать, что всегда остается что-то совершенно недоступное, чуждое, — то, что в языке именно поэтому и называется «сумасшествием».
ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТРИНДБЕРГА
«Что же все-таки было в нем самом и что он видел в себе самом? Ничего! Но были в комплексе его души две основные черты, определившие его жизнь и его судьбу. Сомнение! Он не принимал мыслей некритично, но развертывал их, сравнивая друг с другом. Поэтому он не мог стать автоматом и вписаться в упорядоченное общество. Чувствительность к нажиму! Из-за нее он пытался отчасти уменьшить нажим, поднимая свой собственный уровень, отчасти критиковать высшее, чтобы увидеть, что оно не гак уж высоко и, значит, к нему не так уж нужно стремиться». Так описывает Стриндберг самого себя, изображая свою юность. Но и его сомнение, и его чувствительность к нажиму были лишь одной стороной его противоречивой натуры. Ибо сомнению у него противостоит аподиктическое полагание. Поэтому, несмотря на то, что мы постоянно встречаем у Стриндберга скептически-недоверчивое отношение, столь же часто (и даже почти всегда в те же самые моменты) он — и фанатик утверждения; таковы факты. Чувству придавленности противостоит потребность в превосходстве. Стриндберг всю жизнь ощущает себя согбенным: как ребенок по отношению к взрослым, как плебей по отношению к благородным; он говорит о своей классовой ненависти (урожденного раба, «сына служанки»), о своей культурной вражде. Но он все время питает и свое чувство превосходства: горожанина и аристократа — по отношению к крестьянам и рабочим, образованного — по отношению к необразованным. Он наделен от природы потребностью испытывать почтение, но все время уходит от общения со значительными людьми, потому что другая личность для него «слишком сильна». Подобные взаимосвязи общепонятны и часто встречаются; у Стриндберга они выходят на первый план. Из-за своей истерической предрасположенности он склонен, с одной стороны, ощущать себя ничтожным, а с другой, обретать в каком-то как бы заемном существовании чувство собственного достоинства. Он ощущает себя ареной современных ему движений и влияний, но не центром какого-либо движения.