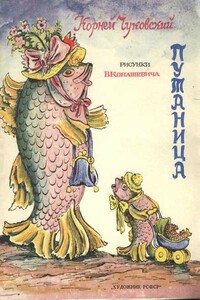Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове) | страница 38
Не футурист, не акмеист, Не захвален и не охаян, Но он в стихах кавалерист — Наш уважаемый хозяин.
Это — Тихонов, служивший до революции в гусарском полку.
Не заставая меня дома, Тынянов неизменно оставлял шутливую стихотворную записку.
Он был человеком расположенным, то есть всегда готовым выслушать, объяснить, помочь в беде, — и железно упрямым во всем, что касалось литературы. Его мягкость, уступчивость, нерешительность на литературу не распространялись. В литературных кругах его мнение считалось золотым, неоспоримым. Когда был организован Союз писателей и мы получили подписанные Горьким билеты, Тынянову был вручен билет номер один — факт незначительный, но характерный.
Если бы я был историком литературы, я бы непременно занялся отношениями между Тыняновым и Маяковским, который, встретившись с ним после выхода «Кюхли», сказал: «Ну, Тынянов, поговорим, как держава с державой». Тынянов писал о Маяковском как о великом поэте, возобновившем грандиозный образ, утерянный со времен Державина, чувствующем «подземные толчки истории, потому что и сам когда-то был таким толчком». Это ничуть не мешало ему шутить над «производственной атмосферой» Лефа.
Часто цитируют письмо Горького к Тынянову в связи с выходом «Смерти Вазир-Мухтара». Не знаю, можно ли выразить с большей силой признание таланта исторического романиста, чем это сделал Горький, оценивая портрет Грибоедова: «Должно быть, он таков и был. А если и не был — теперь будет». Эти слова определяют, в сущности, основную задачу самого жанра исторической прозы.
Я был у Горького вместе с Тыняновым, кажется, в 1931 году. Шел разговор о создании «Библиотеки поэта», а в сущности — о генеральном смотре всей русской поэзии. Можно смело назвать Тынянова рядом с Горьким в этом огромном, еще продолжающемся деле. Но они говорили и о другом. Горький знал, что в 20-х годах Тынянов работал в кинематографии, и уговаривал его вернуться к этому делу.
Веселый, добрый, вежливый человек, любивший шутки и эпиграммы, Юрий Тынянов прожил незаслуженно мучительную жизнь. Он рано и тяжело заболел это было неудачей личной, несчастьем, касавшимся его и его близких. Но были другие, общие несчастья. Придя к нему однажды осенью 1937 года, я нашел его неузнаваемо изменившимся, похудевшим, бледным, сидящим в кресле с бессильно брошенными руками. Он не спал ночь, перебирая свои бумаги, пытаясь найти письмо Горького, глубоко значительное, посвященное судьбам русской литературы, — еще недавно мы вместе перечитывали его. Теперь его мучила мысль, что он сжег его случайно вместе с другими бумагами, в которых, разумеется, не было ничего преступного. Я кинулся доказывать, что письмо найдется, что он не мог его сжечь.