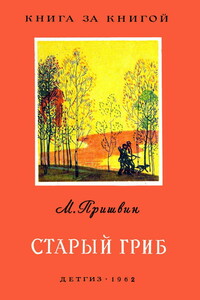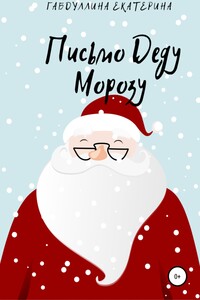Кащеева цепь | страница 37
Ехали по большаку. Город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь в ясные дни чуть была видна с балкона, и что-то слышалось с той стороны в праздники, о чем говорили: «В городе звон». Теперь таинственный собор словно подходил сюда ближе и ближе. Изредка в безлесных полях, как островок, показывалась усадьба с белыми каменными столбиками вместо ворот. Очень странно думалось, глядя на эти ворота: что, если заехать туда, будет казаться, будто много там всего и самое главное — там; а если выехать, то главное кажется тут, на большаке, этому конца нет, а усадьба — просто кучка деревьев. «Неужели и у нас так же?» — подумал Курымушка, но отстранил эту неприятную мысль хорошей: «У нас лучше всех». Показалась рядом с белым собором синяя церковь, сказали: «Это старый собор». Показались Покров, Рождество и, наконец, Острог — тоже церковь; среди зеленых садов закраснелись крыши; сказали: «Вот и гимназия!» В это время на большак с проселочных дорог выехало много деревенских подвод, растянулись длинною цепью, и это стало — обоз. Помещичьи тряские тарантасы обгоняли обозы, а какие-то ловкачи на дрожках на тугих вожжах, в синих поддевках и серебряных поясах, обгоняли тарантасы. Всем им навстречу возле кладбищенской церкви выходил старичок с колокольчиком. Никто почти ему не подавал, а он все звонил и звонил. В Черной слободе все подводы будто провалились: это они спустились тихо под крутую гору до Сергия. Ловкачи в серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и сразу выкатывались на полгоры вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы, тут сразу и стал перед Курымушкой собор, и тут на соборной улице, в доме, похожем на сундук, у матери прямо же и начался разговор о Курымушке с тетушкой Калисой Никаноровной.
— Необходимо свидетельство о говений, — говорила тетушка Калиса Никаноровна. — Неужели он у тебя еще не говел?
— Не говел. Какие у него грехи, вот еще глупости!
— Ну, да, конечно, ты — ли-бе-рал-ка, а все-таки без свидетельства в гимназию не примут. Веди сегодня ко всенощной, сговорись с попом: он как-нибудь завтра его исповедует.
Какая-то не то музыка, не то работа большой молотилки чудилаоь теперь Курымушке, но совершенно не так, как в деревне: там гудит на гумне молотилка, а в саду сами по себе птицы поют, — тут все и ездят, и ходят, и говорят под эту музыку. Не успел о чем-нибудь подумать, как это прошло, и под музыку началось думанье о совершенно другом; в голове стало тоже все быстро крутиться, как в молотилке. Даже и в соборе это не успокоилось, напротив, тут уже совсем разбежались глаза — столько людей! И между ними дорога малиновая уходит к золотым воротам, слышится оттуда ангельское пенье, и батюшка в золотой ризе копается над чем-то. Чудесно! Хотел Курымушка о чем-то спросить мать, оглянулся, а ее нет как нет! Спросил господина, тот улыбнулся и ничего не сказал. Другой показал на малиновую дорогу, и Курымушка по дороге этой идет вперед, всех спрашивает: «Где моя мама?» Ничего не отвечают, а только улыбаются, а он все дальше и дальше идет по малиновой дороге, и страх, похожий на прежний детский в лесу, одолевает его: он один среди этой толпы, где никто не знает ни его, ни его маму. Вот эта малиновая дорога ступеньками поднимается к золотым воротам, туда, конечно, надо идти, узнать у батюшки, тот все должен знать. Со всех сторон, слышит, кричат: «Куда, куда, вернись, стой!» — но это ему только ходу поддает, он почти бежит к батюшке для защиты от страшной толпы. И когда он прошел в царские врата, — «ах!» кто-то сзади. Кто-то фыркнул, батюшка обернулся, спросил: