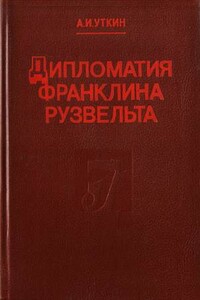Тайны хеттов | страница 25
Среди них — англичанин Рэмсэй, австриец Ланкоронски, француз Шантр, американец Вольф, немец Винклер, а также итальянские, турецкие и опять же немецкие исследователи, имена которых в большинстве случаев поглотил полумрак негромкой славы. Среди них были русские ученые Лундквист, открывший памятник хеттской культуры в Марайте (Таврский горный массив), и академик Ю.И. Смирнов, который обнаружил важные хеттские памятники во время своей Малоазиатской экспедиции 1893–1894 годов. Несмотря на то что царское правительство не проявляло интереса к «подобным пустякам», русским ученым все же удалось создать базу для исследования хеттских и других малоазиатских древностей — Русский археологический институт в Константинополе (Стамбуле).
Все эти ученые и исследователи привозили из известных и неизвестных уголков Каппадокии, Киликии, Фригии, Лидии, с берегов Эгейского моря и Евфрата, из Сирии и Северной Анатолии все новые и новые копии рельефов и иероглифических надписей, печати, фигурки и глиняные таблицы, испещренные аккадской клинописью; как они справедливо предполагали, языком этих надписей был хеттский.[1] Они накапливали сведения, но совокупность этих сведений напоминала коллекцию почтовых марок в руках невежды: хеттские иероглифические надписи никто не мог прочесть, так как расшифровка Сэйса была ненадежна, а хеттский язык, облаченный в аккадскую (то есть ассиро-вавилонскую) клинопись, прочесть которую не составляло труда, также никто не мог понять.
Образец искусства хеттов. Золотые сосуды из Аладжахююка (приблизительно первая половина II тысячелетия до н. э.)
Ни одна тайна не казалась более непроницаемой, чем эта.
Было ясно: до тех пор пока не удастся расшифровать хеттские иероглифы или хеттский язык, запечатленный клинописью, наука не сдвинется с мертвой точки. Археологи и исследователи на местах нетерпеливо поглядывали на ученых, которые представляют собой тыл наступающего фронта науки: на людей, которые, находясь вдалеке, анализируют, систематизируют и оценивают добытые документы, создавая тем самым предпосылки для превращения разрозненных сведений в стройную систему знаний; на людей, которым в тишине университетских и академических кабинетов не угрожает ни нападение горных разбойников (или правительственных войск, что было еще хуже, особенно в Турецкой империи), ни малярия, ни ядовитые пресмыкающиеся; на людей, труд которых обычно не пользуется вниманием, так как с виду он не драматичен, а сами эти люди, как правило, не умеют сказать о нем ничего интересного.