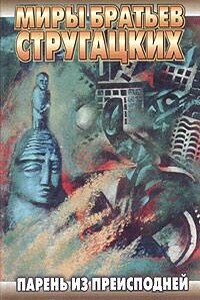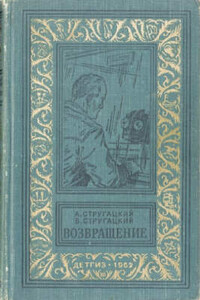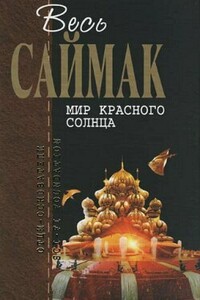Далёкая Радуга | страница 38
— А что, — сказал Банин. — Их называют фанатиками, но в них, по–моему, есть что–то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек эмоций… Голый разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма. Исследователь, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт. И никаких очередей за ульмотронами… Я это себе прекрасно представляю. Человек–флаер, человек–реактор, человек–лаборатория. Неуязвимый, бессмертный…
— Прошу прощения, но это не человек, — проворчал Альпа. — Это Массачусетская машина.
— А как же они погибли, если они бессмертны? — спросил Ганс.
— Разрушили сами себя, — сказал Горбовский. — Видно, не сладко быть человеком–лабораторией.
Из–за машин появился багровый от напряжения человек с цилиндром ульмотрона на плече. Банин соскочил с ящика и подбежал помочь ему. Горбовский задумчиво наблюдал, как они грузят ульмотрон в вертолёт. Багровый человек жаловался:
— Мало того, что дают один вместо трёх. Мало того, что теряешь половину дня. Тебе ещё приходится доказывать, что ты имеешь право! Тебе не верят! Вы можете себе это представить — тебе не верят! Не верят!!!
Когда Банин вернулся, Альпа сказал:
— Всё это довольно фантастично. Если вас интересует тыл, обратите лучше пристальное внимание на Волну. Каждая неделя — очередная нуль–транспортировка. И каждая нуль–транспортировка вызывает Волну. Большое или маленькое извержение. А занимаются Волной дилетантски. Не получилось бы второй Массачусетской машины, только без выключателя. Камилл — вы знаете Камилла? — рассматривает её как явление планетарного масштаба, но его аргументы неудобопонятны. С ним очень трудно работать.
— Кстати, — сказал Ганс, — знаете точку зрения Камилла на будущее? Он считает, что нынешняя увлечённость наукой — это своего рода благодарность за изобилие, инерция тех времён, когда способность к логическому восприятию мира была единственной надеждой человечества. Он говорил так: «Человечество накануне раскола. Эмоциолисты и логики — по–видимому, он имеет в виду людей искусства и людей науки — становятся чужими друг другу, перестают друг друга понимать и перестают друг в друге нуждаться. Человек рождается эмоциолистом или логиком. Это лежит в самой природе человека. И когда–нибудь человечество расколется на два общества, так же чуждые друг другу, как мы чужды леонидянам…»
— А, — сказал Банин. — Ну что за чепуха. Какой там раскол? Куда денется средний человек? Пагава, может быть, и смотрит на новую картину Сурда как баран на новые ворота, а Сурд, возможно, не понимает, зачем на свете существует Пагава, тут ничего не скажешь — вот тебе логик, а вот эмоциолист. А кто я? Да, я научный работник. Да, три четверти моего времени и три четверти моих нервов принадлежат науке. Но без искусства я тоже не могу! Вот у кого–то здесь играет проигрыватель, и мне очень хорошо. Я бы обошёлся и без проигрывателя, но с ним мне гораздо лучше… Так вот, как же я, спрашивается, расколюсь?