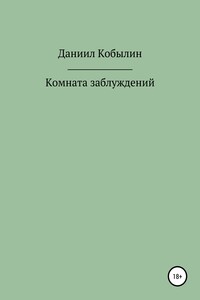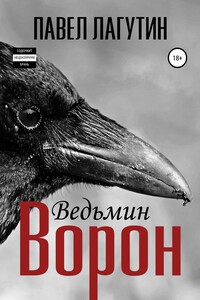Русская мать | страница 84
Понимала ли ты мои стихи? И меня самого, когда в стихах и врал, и говорил правду? Ты смотрела на меня только обывательскими глазами. Так что в этих глазах я остался лишь тем, что говорил и делал, формой, а не сутью. А суть была тебе безразлична или вовсе мешала. Литература, по-твоему, - то, что налицо, байки и шарм. Всякая заумь неприлична. И нечего искать то, чего нет. Ты даже, пожалуй, из чистого упрямства отказалась пойти за мной в глубь, ненадежную, неверную. Правда, было время, когда ты могла понять это. Когда ты играла на скрипке, и позже, когда немного лепила, ты понимала это незримое, бесплотное. Чуяла его в Бетховене и Моцарте, Родене и Бурделе. Видела, как творение становится больше автора. Но сыночка твой разве такой талант? А если такой он талант, значит, не принадлежит уже своей матери! Думаю, ты считала, что я просто способный. И возненавидела бы меня, признай ты во мне гения ну или что-то в этом роде.
Успокойся, не гений я! Даже и поэт не настоящий. Возможности мои скромны, я знаю и смирился. Просто я в форме, когда живу ни дня без строчки. А ведь для поэзии этого мало. Но я люблю писать, люблю стучать на машинке, вытаскивать листки из кармана в кафе или метро, у моря, ручья, холма или при подружке, министре, чиновнике и кропать, и кропать, как дышать! Моя поэзия, пусть бездарная, - мне отдушина. И я прилежен, как кассир в захолустном банке или вышивальщица в темной комнате. Пишу и прозу - свожу счеты с веком. А что толку? Если я прав, труд мой забудут. А если не прав, то и зачем трудился... Рассказов своих не люблю. Они как сценарии для плохих фильмов. Но прозой я утешаюсь, когда не могу писать стихов. Выходит, весь мусор и шлаки выплескиваю в нее, и на том ей спасибо, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Говоришь, пишу я тяжело и порой с вывертом. Но признай и другое, и ни к чему тут ложная скромность: почти год грязной прозы - и пара недель чистой поэзии.
У моей прозы назначение скромное. Прикрыта она вымыслом или нет, всегда она только - автобиография. Пойми, что быль можно перенести в сказку и слить их в одно. Мое тело - это все мои мании и фобии. Между селезенкой и плеврой, ближе к тонкой и толстой кишке, - чувствилище, то есть отношение к де Голлю, Джону Кеннеди, Вилли Брандту, Индире Ганди, Моше Даяну и Кастро. И потому мне они в сто раз ближе тебя. И когда тревожусь или вздыхаю с облегчением, то думаю не о тебе, а о войне в Биафре и в Бангладеш, о поездках Никсона, богатстве Саудовской Аравии, перенаселении Земли и трех жалких шажках Нила Армстронга по Луне. Я, к твоему сведению, заодно со всеми ними. И родня мне не ты, а они, Армстронги и Никсоны. Пусть они обо мне даже ведать не ведают. Мое собственное взволнованное воображение полно ими. А тебя, как видишь, я в себя не впустил. Не положено, по всемирному, так сказать, протоколу. Но и ты платишь мне тем же. Ты вникаешь в мои писания поверхностно, не в суть. Считаешь их жестокими, излишне язвительными, давящими, безысходными. По-твоему, они не успокоенье, а пытка. И в ответ на это я шлю тебе Кафку, Беккета, Буццати и прочих. Ты прочтешь страниц десять-двадцать, скажешь - такие же противные, как и я, и шлешь обратно. Что ж, я сам виноват. Насильно, тем более упрямой старухе, мил не будешь. Жду: а вдруг наступит просветление и ты все поймешь? Но вижу удовлетворенно: с тем же успехом можно ждать, что ты пройдешься колесом или споешь Валькирию в Байрейтской опере!