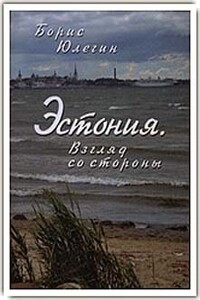Русская мать | страница 76
Не разбираются нынче люди в вещах, эксперты все - воры, а покупатели и такому барахлу рады-радехоньки, потому что бесятся с жиру". Прошли еще немного. На углу авеню Де-ля-Бурдонне ты приникла к стеклянной двери: увидала ровные рядки почтовых марок. Я объясняю, что эти марки французские, но не Франции, а бывших французских колоний, ныне независимых стран. Злобно отвечаешь, что я строю из себя всезнайку, а сам, по всему видно, круглый невежда. Сделали еще пять шагов, и ты сменила гнев на милость: сыночка дорогой, ты столько всего знаешь и никогда ни в чем не ошибаешься. Подошли к светофору.
Ноги у тебя подкосились. Поддерживаю тебя обеими руками. На той стороне - скамейка. Ты показываешь на нее слабым кивком, хочешь сесть. Умрешь, а дойдешь.
Действительно, дошла, села, немного успокоилась и заявила, что в Нью-Йорке поздняя осень мягче, деревья еще не облетели, и листья желтые, но очень красивые. Ты-то, мол, в гробу, такой красивой не будешь. Я развлекаю тебя байками. Говорю: помнишь, был такой Саша Гитри? Тут его дом неподалеку. Двадцать лет, как умер, а его пьесы и фильмы вдруг полюбили. Когда его очередная жена ушла к Пьеру Френе, он сказал приятелю: "Теперь Френе увидит, как мало мне нужно". Ты засмеялась. Сначала неохотно, но потом захохотала. Да, говоришь, французы народ хоть и противный, но самый остроумный на свете. Я украдкой смотрю на часы. Пытка подходит к концу, пора возвращаться.
Но ты так не думаешь. Достаешь из сумочки два очищенных апельсина: сыночка, хочешь? Я говорю: перчатки не снимай и не расстегивай пальто. Ты восклицаешь: значит, все-таки любишь хоть немножко старуху мать, а ты уж думала было... ну, вот, теперь не будешь так думать, а я сам должен смотреть, чтоб не простудиться, и под машину не попасть, и вообще, мало ли что. Молчим, жуем апельсины, держа их в платке, чтобы не закапать пальто. Ты простонала: вечно эти марки! Куда ни пойдешь, они тут как тут, как нарочно. Зрачки расширены, ты в ужасе, по лицу пробегает судорога, точно вот-вот потеряешь сознание. Поднимаю тебе воротник, а ты, рванув, опускаешь его: тебе жарко, ты хочешь домой немедленно. Беру тебя за руку, но ты вырываешься. Нет, сейчас ты пойдешь вон в тот магазин и спросишь, не заходил ли сегодня к ним твой муж купить марок. Отвечаю предельно осторожно, что не заходил и не зайдет уже никогда. Хихикнула: ну, разумеется, ведь твой муж теперь - я. И вдруг согнулась. Не подхвати я тебя, упала бы. Снова выпрямилась, лицо вдруг стало спокойное, рассыпаешься в извинениях: теперь ты все и всех путаешь, неладно что-то с памятью. А я думаю, что ты молодец: прогулка утомительна, но ты не сдаешься, без нее ты была бы живым трупом, без пяти минут просто трупом. А возвращаться, говоришь, нам еще рано, пойдем дойдем до авеню Боске. По дороге ты сообщаешь, что ученик парикмахера вон из той парикмахерской каждый день в полпятого встречается с продавщицей вон из той бакалеи, кажется португалкой, и они вместе идут на рю Де-л'Экспозисьон, на часок-другой в номера, где никто ни на кого не смотрит. Ах, что за дивные фрукты: яблочки красные, бананчики желтые, апельсинчики оранжевые, все-таки, что ни говори, Франция портится, портится, а до конца никогда не испортится! Ты развеселилась, хотя время от времени останавливаешься и прижимаешь палку набалдашником к сердцу. Ох, как бьется, колотится, стучит, как молоток, ждешь, ждешь, пока успокоится.