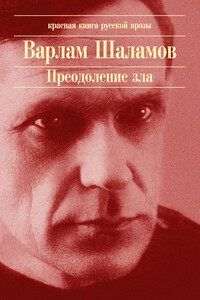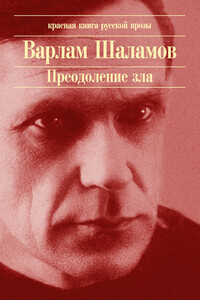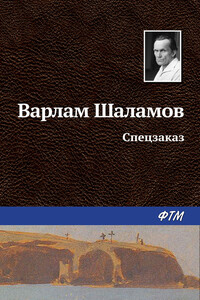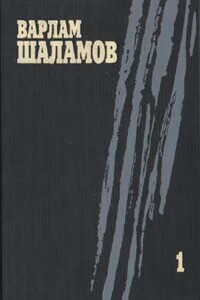Воспоминания | страница 74
К этому времени я прописался на Садово-Кудринской, где жил и раньше, до путешествия на Вишеру. Прописывали тогда по профсоюзному билету, по любому удостоверению личности. И в комнате этой жили когда-то моя сестра и я и бывший муж сестры, с которым она развелась и уехала вСухум. Узнав, что я живу в этой комнате, бывший муж сестры, на чье имя была эта комната, сам он жил где-то за городом и в Москве не бывал месяцами, сейчас же выписал меня, не сообщая ни мне, ни сестре.
Тех нескольких дней прописки оказалось достаточно, чтобы я получил вызов в центральный уголовный розыск. Я взял все документы — профбилет, удостоверение с места работы, прописку, справку из лагеря об освобождении, военный билет — и явился на Петровку.
Проверка была недолгой, возвратив документы, товарищ Ерофеев подписал мне пропуск на выход.
— А в чем дело?
— Да ни в чем, просто проверяем всех, кто раньше сидел.
После смерти отца в 1933 году я женился, в 1935 году у меня родилась дочь, а 12 января 1937 года я был арестован, осужден особым совещанием при наркоме НКВД товарище Ежове на пять лет трудовых лагерей с отбыванием срока на Колыме. И отправился на Колыму.
В непрерывной работе над рассказами мне казалось, что у меня что-то стало получаться. Несколько рассказов Бабеля — писателя наиболее модного в те времена — я переписывал и вычеркивал все «пожары, как воскресенья» и «девушек, похожих на ботфорты» и прочие красоты. Из рассказов немного оставалось. Все дело было в этом украшении, не больше. Говорят, что Бабель — это испуг интеллигенции перед грубой силой — бандитизмом, армией. Бабель был любимцем снобов. Истинное открытие того времени, истинный массовый успех имел Зощенко, и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зощенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зощенко было немало. Пантелеймон Романов, например. Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную перспективу), показавшим новые возможности слова. Зощенко трудно переводить. Его рассказы непереводимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого значения.
Я работал в московских журналах[14]. За годы с 32-го по 37-й в Москве и Московской области нет ни одной фабрики, ни одного рабочего общежития, ни одной рабочей столовой, где бы я не был, и не один раз. И хотя свою литературную биографию я числю с лефовских кружков 1928 года, первый рассказ мой напечатал Панферов в «Октябре» 1936 года.