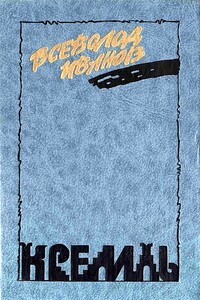У | страница 47
Доктор ответил важно:
– У него личная драма, глубокая и замкнутая.
– Личная, Матвей Иваныч? Не замечал. Из-за стройматериалов?
– Нет, из-за любви.
– Скажите, пожалуйста.
Мне показалось, что дядя Савелий улыбнулся пренебрежительно – и над доктором, к тому же и голос его потерял мгновенно заискивающую свою тихость. Он достал из кармана сигарную коробку, вручил ее доктору, добавив, что брат Лев Львович приказал поблагодарить и возвращает утерянное. Затем быстро протянул к доктору тонкую и грязную свою руку – «разрешите воспользоваться» – и взял одну сигару. Курить он, впрочем, не стал, а, постукивая сигарой по переплету «Переписки», промолвил, не утаивая пренебрежения:
– Так от любви? То-то я смотрю: излишняя в нем сумрачность, Матвей Иваныч. А как вы изволите относиться к театрам?
– Спокойно.
Старичок подошел к дверям. Постукивая сигарой по дверной ручке, он наставительно сказал:
– Зазря, Матвей Иваныч. Театры могут большую работу проделывать, в вашем духе… Возьмите, к примеру, Качалова – какие личные драмы способен развернуть человек, посмотришь – и жить скучно. И другие артисты в том же духе. Передают вот, на Урале произошел небывалый случай перерождения, благодаря игре, подряд, конечно, всего репертуара, труппами академических театров. Целый город изменил совершенно свои вкусы и привычки. Ни водки, ни склок, ни сплетен, ни даже матерного слова!… И будто бы случай такой столь потряс руководителей, что они решили распространить опыт до неимоверных масштабов… Не с Урала будете, Матвей Иваныч?
– А вам Черпанов рассказывал это? – спросил я.
Доктор, кажется, даже и не слушал дядю Савелия. Да и трудно было б его и слушать: старичок просто душил скукой и тоскливой вежливостью. Думал я было спросить о костюме: не черпановская ли это поддевка, но не хотелось дальше ввязываться в разговор. Отвечая на мой вопрос, старичок пробормотал что-то вроде: «Черпанов? А вроде он, а вроде не он. Даже не факт важен, мало ли от чего люди перерождаются, а слух!» – и, вежливейше пожав нам всем руки, исчез.
Огорчишься на скуку и вялость в мыслях, нагоняемую иным знакомым, но куда лучше она той ясности, которую часто опрокидывают на тебя неудачные твои друзья, словно плохой агроном удобрения в поля, причем степень нуждаемости полей совершенно не изучена. Выйдут люди в поле – и только губами шлепнут – какая пакость не тянется из земли: лебеда в сажень, чертополохи как дубы, васильки шире подсолнухов, а жрать нечего. Думай бы доктор о происшедшем, взвесь бы он спор между дядей Савелием и Жаворонковым, пойми, что убрать Савелия Львовича стоило Жаворонкову большого напряжения и даже страдания (он таки побаивался Степаниды Константиновны) – забудь бы он свои окаянные умозаключения, проделанные им недавно возле тюфяка в нашей клопиной каморке, обрати бы он внимание, каким зверем, по мере расширения его речи, кралась к своему супругу Жаворонкова и как Жаворонков скисал, наблюдая это выслеживание, и как он искал выхода – и не нашел ни одного, кроме… словом, доктор подвинул к сопящему Жаворонкову дрянной стул, расшатанный и скрипучий, уселся на него верхом и поднял ладонь к уху: