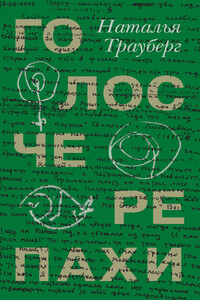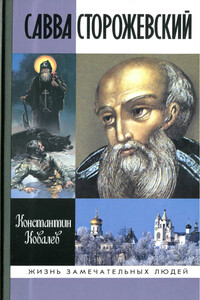Сама жизнь | страница 119
бы себе жить иначе, потому что всерьез, чего бы это ни стоило, почитал чужую свободу. Судя по всему, руссоистских иллюзий у него не было, особенно -там, в эмиграции. Многие уезжали, веря, что от свободы всё и вся становится только лучше, а через несколько лет, вернувшись или в письмах, рычали, требуя жестокости и порядка. Сейчас и у нас то же самое, но Боря бы не отступился. Кто-кто, а он мог повторить слова Мандельштама: «Я свободе как закону / Обручен и потому / Эту легкую корону / Никогда я не сниму».
Правда, Мандельштам противопоставляет свободу верности, но очень уж подходят здесь эти строчки. Выбирать между свободой и верностью Боре не пришлось, да он и не смог бы, оба понятия для него абсолютны. Он был очень верным, очень строгим к себе. Вопреки обычному – мягкость к себе и жесткость к другим. Бывают и варианты получше: человек суров к себе и другим или и к себе, и к другим милостив. Боря пишет между делом, как будто это часто бывает, что надо быть строгим к себе и терпимым к другим. Новоязом он не пользовался, если написал – значит, так и думал; а по скромности считал, что ничего особенного в таком мнении нет. Оказывается, есть.
Борин опыт нам очень важен. Сейчас издается двухтомник Исайи Берлина[ 80 ]. Мудрые статьи, замечательный человек, почитает свободу. Но он меньше платил, он легче жил, ему посчастливилось уехать еще в 1920-е годы. А Боря мучился здесь, и ничто его не взяло – и не обозлился, и не спился, и остался либералом. У этого слова много смыслов, есть совсем узкие, но ненавидят его, как правило, в самом широком смысле, самом благородном. Однако его не берет и это. Другое дело, что на плоскости такие задачи не решаются. Серьезное, как у Бога, уважение к чужой свободе неизбежно уводит в те измерения, где действуют только жертва, крест и чудо. Но об этом теперь (или вообще) писать не стоит.
Теплое лето 1955 года
Сорок лет тому назад появился журнал, который вы сейчас читаете[ 81 ]. Даже такая простая фраза -уже полувранье: можно сказать, что тогда воскресла «Интернациональная литература». Собственно, мы сами, довольно молодые филологи, воспринимали это именно так. «Интернациональную» мы прочитали вдоль и поперек, каких-то писателей знали только оттуда, а любили почти всех. Наверное, не надо объяснять, почему в те времена радовались чему угодно, только бы «другому». Кстати, теперь, когда многие мечтают о сплошной душеполезности, я вспоминаю те годы.