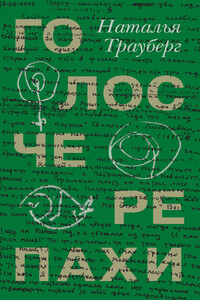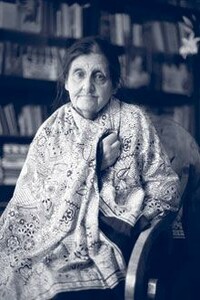Сама жизнь | страница 106
Если бы отец Александр был католическим монахом, ему пришлось бы взять девиз. Они бывают всякие, например: «Сила Моя в немощи совершается». Наверное, ему подошло бы лучше всего вот это: «All shall be well», или что-нибудь из 103-го псалма. Особенно любил он меховых зверей и всяких грызунов. Как-то мы узнали, что «опоссум» – это «белый зверек», и радовались, вспомнив, что белый кролик в «Гайавате» зовется «вабассо». Потом я прочитала в словаре, что это действительно то же самое слово.
(Когда отца уже не было на земле десять лет, я шла по Оксфорду с сыном наших общих, давно уехавших друзей. Грег, бывший Гриша, восхищался тем, что для Честертона мир и уютен, и причудлив. Тут мы остановились и оба сказали: «Как для отца Александра».)
Тем временем многое менялось. Кончались 1960-е годы, вместившие и убогие радости коллектива, и сердитую обособленность Муравьева, Сергеева, Бродского. Судить, хорошо ли время «оттепели», бессмысленно. По сравнению с тем, что было раньше, все покажется хорошим. Наверное, лучше всего было бы
рассказать о той поре в музыке или в каких-нибудь туманных стихах. Но, конечно, жизнь была советская, со всем издевательством над чужими и слабыми. Кто-то воспитывал в себе презрение, кто-то – бойкость, а наш отец просто жил. Позже, в 1990-1991 году, Ме-лик Агурский говорил мне, что Александр – классический шестидесятник. Я не совсем поняла, что он имел в виду, да и год был нечеловеческий, ровно между их кончинами, но думаю, и тогда, и всегда отец очень подходил ко времени, в которое был послан.
Честертон писал, что святой – противоядие против пороков своей эпохи. К отцу Александру это очень подходит. Тогда бытовала присказка: «Сноб или жлоб?». Под снобом понимали несоветского, под жлобом – уже органично живущего по-советски. Как было в реальности? Те, кто «смотрел сверху», уподоблялись жлобам невежливостью; те, кто дрожал в своей нише, были на грани сумасшествия. Наверное, только в фильмах молодые герои радовались еде, зверям, стихам, не замечая, где живут. Отец Александр прекрасно замечал, а указанным вещам – радовался, без допинга, без питья, без истерической взвинченности. Последние два слова кажутся смешными, когда речь идет о нем.
Свойства эти – конечно, далеко не только «естественные» – очень пригодились после Чехословакии. Время снова переменилось. Трудно передать, как тяжелы были 1970-е годы! Привился миф об их особом уюте. Что это? Египетские котлы? Поколения, не знавшие чистого воздуха? «Имманентная кара», то есть зло, плодящее зло, из особой вредности – противоположное? На экране шли картины про Павку Корчагина, а тут, на земле, набирал силу пофигизм.