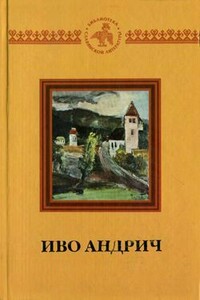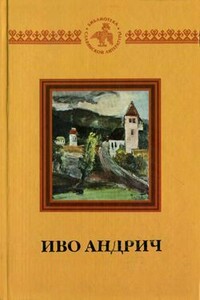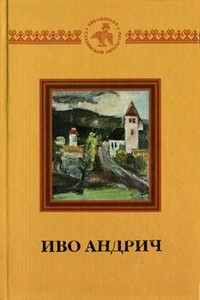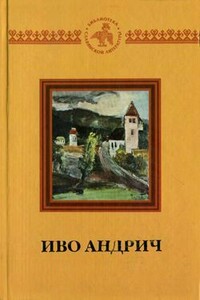Проклятый двор | страница 48
Однако эту мысль сразу же вытеснила другая: какова участь Чамила? Снова его бросило в жар. Сочувствие к другому становится невыносимым, когда ты ничего не можешь ни сделать, ни даже узнать. Фра Петар вдруг почувствовал непреодолимую потребность уйти отсюда, увидеть и услышать других людей, не имеющих ничего общего с путаными, темными рассказами юноши из Смирны; увидеть каких угодно людей, лишь бы они были по ту сторону страшной сети, которую плетут несчастные безумцы и затягивают все туже царские полицейские, люди без души и совести, и в которую, сам того не ведая, угодил и он.
Фра Петар зашагал по двору, мимо темных закоулков и жалких клочков тени, где, рассыпавшись на кучки, ссорились, играли или развлекались заключенные.
VIII
Через два-три дня стало ясно, что никто не собирается допрашивать его из-за бесед с Чамилом. Значит, кончено. Исчезло ощущение страха и постоянного ожидания, но от этого не стало ни лучше, ни легче. Наоборот. Началась жизнь без Чамила. Не забывает его фра Петар, однако чувствует, что не дождаться ему друга.
Стоит настоящий летний зной. Во Дворе все по-старому. Одних выпускают, других приводят на их место, но это происходит почти незаметно, да и не в этом дело. Двор живет сам по себе, постоянно меняясь и вечно оставаясь неизменным.
Каждое утро в холодке собираются те же самые или подобные им группы заключенных. Фра Петар останавливается возле ближайшего кружка. Все то же, что и раньше. Заим женится и разводится с какими-то новыми женщинами, и опять одни грубо уличают его во лжи, а другие слушают. Он бледен, лицо у него темное, с зеленоватым отливом, как у больного желтухой. И где-то далеко-далеко блуждает взгляд этого жалкого человека, обезумевшего от страха перед приговором, который будет вынесен ему, если обвинение подтвердится.
И другие говорят о женщинах, только по-иному. Чаще слышен глуховатый бас атлета. Но вот на мгновение и он замолкает и слушает вместе с остальными, как пожилой матрос рассказывает о молодой гречанке, которая служила у них в трактире.
– Выше и крепче бабы я не видел. Баркас! Груди ровно две подушки, а сзади покачиваются два увесистых окорока – так и колышутся. Каждый тянет руку, чтобы ухватить где сумеет. Она отбивается, защищает ее и хозяин, гнилозубый грек, но разве матросам свяжешь руки! Хоть легонько, да ущипнут. Потом она не выдержала – бросила эту работу. Так, во всяком случае, сказал хозяин. Да небось, старая лиса, запрятал ее в доме – для себя приберег. Ругают его моряки, вздыхают: «Эх, жаль, такая баба была! Прямо копна!» – «Как же, копна! – говорит грек будто сам с собой. – А не положи я этому конец, да каждый бы щипал, что бы от нее осталось? Соломинку за соломинкой и копну бы разнесли. Шалопаи!» – Эх, – негодует глухой бас. – Эх, эх! Ну что за люди! Только о трактирных шлюхах и можете говорить! Да еще одни гадости! Эх вы!