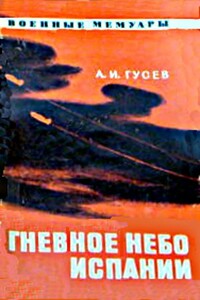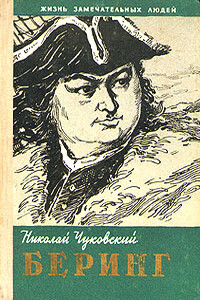Моя жизнь с Пикассо | страница 40
Она впустила нас в переднюю и низким мужским голосом поздоровалась с Пабло. Когда он представил меня, проскрежетала «Bonjour, Mademoiselle»[7] с акцентом, напоминающим эстрадную пародию на американского туриста, читающего фразы по французскому разговорнику. Мы сняли пальто, повесили их в небольшом вестибюле. Вошли в большую галерею, увешанную картинами, в их числе было много кубистских, главным образом Хуана Гриса и Пабло. Там, в кресле под собственным портретом, написанным Пабло в девятьсот шестом году, сидела лицом к двери Гертруда Стайн, широкая, массивная, внушительная, с коротко стриженными седыми волосами. На ней были длинная коричневая юбка до лодыжек, темно-бежевая блузка, толстые кожаные сандалии на босу ногу.
Пабло меня представил, и она жестом предложила мне сесть на стоявший напротив диван. Пабло сел на подоконник сбоку и чуть позади хозяйки, спиной к свету, словно хотел наблюдать за сценой, не будучи вынужденным принимать в ней участие. Блеск его глаз говорил о том, что он надеется получить огромное удовольствие. Алиса Токлас уселась на том же диване, как можно дальше от меня. В центре нашего кружка было несколько низких столиков, на них стояли тарелки с печеньем, пирожными, булочками и всевозможными лакомствами, которых люди не видели в тот послевоенный период.
Я оробела от первых вопросов Гертруды Стайн, резковатых и подчас бесцеремонных. Ей явно не давала покоя мысль: «Какие отношения у Пабло с этой девчонкой?» И она учинила мне допрос с пристрастием, сперва на английском языке, потом на французском — которым владела не блестяще. Это было похлеще устного экзамена на степень бакалавра.
Я старалась обдумывать свои ответы, но меня отвлекала огромная шляпа Алисы Токлас. Одета она была в темно-серое и черное, шляпа тоже была черной, с узкой серой каемкой. Вид у нее был откровенно похоронный, но одежда безукоризненная. В последствии я узнала, что ее модельером был Пьер Бальмен. В ее присутствии я чувствовала себя неловко. Во внешности и поведении ее сквозила неприязнь, словно она имела предубеждение в отношении меня. Говорила она редко, время от времени сообщая Гертруде Стайн ту или иную подробность. Голос у нее был очень низкий, как у мужчины, и скрипучий; слышно было, как сквозь ее зубы проходит воздух. Звук был очень неприятным и навевал ассоциацию с заточкой.
Гертруда Стайн постепенно смягчала свой допрос. Ей захотелось выяснить, насколько хорошо я знаю ее творчество и читаю ли американских писателей. К счастью, я читала многих. Она сказала, что является духовной матерью их всех: Шервуда Андерсона, Хемингуэя, Скотта Фицджеральда. Особенно много говорила о Досе Пассосе, как испытавшем ее сильное влияние; и даже об Эрскине Колдуэлле. Внушала мне свою значимость даже для тех, кто никогда не благоговел перед ней, например, на Фолкнера и Стейнбека. Сказала, что без нее не было бы той современной американской литературы, какую мы знаем.