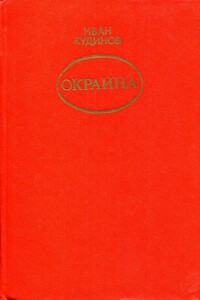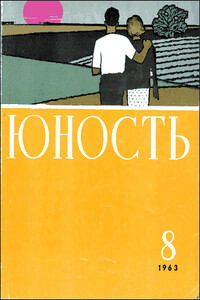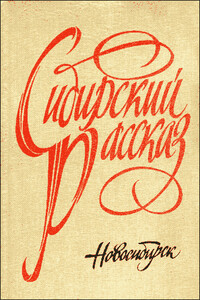Переворот | страница 41
— Истинно, сын мой, истинно! Как сказано: оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей воссоединится и станет с нею единой плотью…
— Слыхал? — гудел и похохатывал Брызжахин. — Единой плотью. Чего робеть? Всем же известно, что учительша голову тебе, братец, вскружила — шила в мешке не утаишь. Вот и воссоединяйтесь. При вашем холостяцком-то положении в самый раз.
Бергман смутился еще больше.
— Мое положение… Да-с. Деликатное.
Застолье шумело и гомонило. Парни и девки настроились уже на пляску, бабы попытались было песню завести, да зачин вышел излишне высоким, не хватило духу… Смех, визг, разноголосица. Митяй тоже разошелся не на шутку: раз десять кряду громогласно объявил, что вино ему подали «сорное» и пить он его не будет, покуда молодые… «Горько!» — опережая друг друга, кричали в разных концах застолья. Митяй похохатывал и, красный весь, потный и расхристанный, тянулся через стол со своим стаканом, выкрикивал так, что жилы на длинной кадыкастой шее набухли и посинели:
— Сват… послухай, сват, чего тебе скажу! — тянулся Митяй своим стаканом, проливая водку в тарелку со студнем, никак не мог дотянуться до Ильи Лукьяныча. — Слышь, сват?
Барышев, не глядя, взял свой стакан и, не глядя, протянул: чокайся, коли приспичило. И поставил, даже не пригубив. Митяй так и замер с полуоткрытым ртом, губы тряслись обиженно, руки тоже тряслись, и водка сплескивалась на стол.
— Что же ты? — сказал Митяй высоким напряженным голосом. — Что же ты, сват, эдак поступаешь? Брезгуешь, ниже своего достоинства… А я плевал! — взвихрился вдруг. — Плевал я на твое достоинство! И запомни, сват… черту брат, запомни и заруби себе на носу…
Митяя кое-как утихомирили, усадили на место. И вскоре он, забыв о «свате» и стычке с ним, нечаянной да не случайной, сидел серьезный и присмиревший, и в глазах его, раскосых слегка и узковатых, копилась, копилась голубизна — первый признак того, что душа Митяя обретает равновесие и настраивается на песню. Песня же у Митяя была своя, единственная, которую он пел только по большим престольным да годовым праздникам, на свадьбах да на крестинах… Однако никто и никогда не слышал, чтобы допел он ее до конца — должно быть, потому, что была она слишком длинна, эта песня, а может, и вовсе бесконечна. Песня преображала Митяя, захватывала, и он в такие минуты становился немножко шальным и блаженным, как бы не в себе, и никого вокруг не замечал. Вот и сейчас он уже был весь там — в песне. Закрыв глаза, точно вслушиваясь в себя самого, Митяй глубоко вздохнул, набирая полную грудь воздуха, но запел тихо и мягко, без нажима: