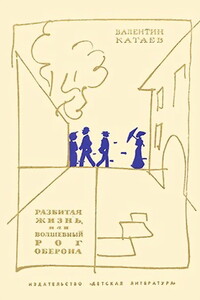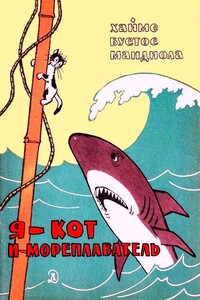Неугомонные бездельники | страница 32
— Наводнение, — пояснил я, ликуя.
— А-а, и по воде, наверно, утопленник плывет.
— Почему? Никаких утопленников! Вода чистейшая!
— А чего тогда воронам зырить?.. Они что, дураки, что ли, зырить на чистейшую воду!
— Хм… Ну, ладно, пусть утопленник, — согласился я горько, потому что именно от этого вся картина стала страшной.
Борька что-то прикинул и произнес:
— Теперь лучше… А кто утопился?
— Я откуда знаю! Ты же сам придумал.
— Так из-за твоих же ворон, — оправдался Борька.
— Не ворон, а воронов! — зло поправил я.
— Какая разница!
— А такая, что у ворон нету рифмы, а у воронов есть! — прокричал я. — И хватит!.. В стихах ты хуже разбираешься, чем в шахматах!.. Тебе только покойников подавай!
Борька небрежно усмехнулся, поставил на доску белую пешку и щелкнул ее по голове. Я решил, что под белой пешкой он имеет в виду меня, выдвинул на середину черную пешку и так долбанул ее, что она сделала двойное сальто-мортале. Под ней я подразумевал, конечно, Борьку. Он это понял, и мы вместе отходчиво рассмеялись.
— Боб, уже семь! — спохватился я и опять глянул на желтое пятно, точно обвиняя его в отсутствии родителей.
Борька уловил мою тревогу и спросил:
— Ты чего сегодня к складу прицеливаешься?
— Да так, — уклончиво ответил я, не желая посвящать Борьку в темные складские делишки. — Айда на концерт.
Мы зашли за Славкой, за Юркой и отправились.
У крыльца Куликовых уже теснились двумя рядами стулья, табуретки и даже одна скамейка, опертая одним концом на чурбак, потому что была без ножек. Взрослых пока не было, зато мелюзга, пища и повизгивая, барахталась клубками, спихивая друг друга с двухметровой доски, специально, видно, положенной для них на землю. Карапузам этот живой концерт — зрелище ого-го-го! А то у них ни песочниц, ни качель, ни лесенок — ничегошеньки, один шлак у забора да картофельные очистки.
Мы уже заранее выбрали себе место — на дровянике. Он стоял, врезавшись в огород, прямо против сцены. По углу вскарабкавшись, как коты, мы улеглись на ржавую крышу так, что видны остались одни наши макушки.
Сени Куликовых были открыты, там чувствовалась возня и нервозность. На крыльцо выскочила Нинка, в царском венце с лентами, в марлевом пышном платье до пят, и стала привязывать веревку поперек сцены. У нее не клеилось, она злилась, дергалась. А у меня даже ладони зачесались — эх, как бы я сейчас эту веревочку натянул!.. Наконец, кое-как, с провисом, закрепив ее и перекосив свой царский венец, Нинка шмыгнула за кулисы, мелькнув марлевым подолом.