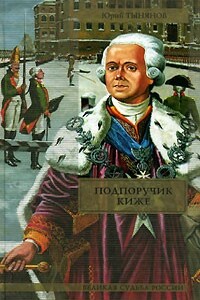Пушкин и его современники | страница 16
Грот пишет по этому поводу: "Говорят.. . что Шишков в сущности ратовал не за язык, а за чистоту веры и нравственности. С этим нельзя согласиться: сначала не было и речи о чем-либо ином, кроме слога, которого порча приписывалась только пристрастному предпочтению французского языка и французскому воспитанию; потом, уже в конце своего "Рассуждения", Шишков, чувствуя недостаточность прямых доводов, прибегнул к другим и задел своих противников опасением за их религиозные и патриотические чувства. Чем далее шла полемика, тем более пользовался он этою уловкой, но спорившие с ним очень хорошо понимали настоящий смысл ее, и Дашков умно заметил: "Он считает всякое оружие против соперников своих законным", а в другом месте: "Зачем к обыкновенным суждениям о словесности примешивать посторонние укоризны в неисполнении обрядов, предписанных церковью".* Эта примесь политически общественного момента настолько иногда искажала литературную сущность дела, практическая полемика настолько спутывала литературные деления, что почетным членом "Беседы" из политических соображений был выбран не кто иной, как сам Карамзин. Вместе с тем младшие архаисты радикалы (Катенин, Грибоедов) и революционеры (Кюхельбекер).
Здесь сказывается разница между архаистичностью литературной и реакционностью общественной. Для младших архаистов второй момент отпал и тем ярче проявился первый.
Самое название "славенороссов" (пародическое "варяго-россов"), "славянофилов", "славян" явилось в ходе полемики и не отражает существа дела, подчеркивая одну, правда, важную, деталь спора, притом не для всех архаистов в одинаковой мере приемлемую. Деталь эта заключается в утверждении Шишкова, что русский язык произошел из церковнославянского. Для Шишкова характерно не только то, что он перенес основу полемики на общественно-политическую почву, но и то, что положения известной литературной теории, имевшие практическое литературное значение и вовсе не нуждавшиеся в подкреплении со стороны истории языка, он пытался обосновать именно со стороны исторической лингвистики. Требование особого "диалекта" по отношению к высоким жанрам (ввод архаизмов и церковно-славянизмов) вовсе не нуждалось в этом подкреплении. Подкрепление же это, легшее в основу научных трудов Шишкова и на первых же порах обнаружившее свою научную несостоятельность, способствовало дискредитированию литературной теории старших архаистов. Вот соответствующее утверждение Шишкова: "Древний славенский язык... есть корень и начало российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка". ** Ср. также "Краткое начертание о славянах и славянском языке" Дмитрия Воронова: "Есть ли бы не воспоследовали безначалие и внутренние раздоры между преемниками Ярослава. . . то очень могло бы статься.. . что язык славянский, или вообще славянороссийский, был бы, может быть, и поныне языком так называемого большого света.. . ***