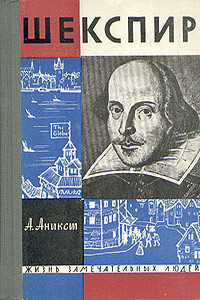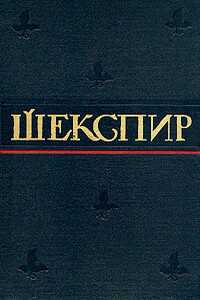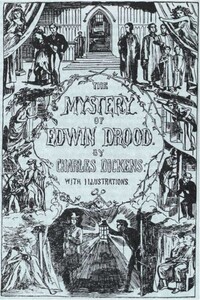Байрон-драматург | страница 7
Байрон высоко ценит разум как могучую силу познания, но он уже не верит просветителям, что разум есть движущая сила мирового прогресса. Разум и справедливость требовали, чтобы восторжествовала революция, совершаемая во имя свободы, равенства и братства людей. На деле получилось иное, и, следовательно, разум: отнюдь не является столь всемогущим, как это казалось философам XVIII века.
Может быть, самым прочным основанием оптимизма просветителей было их убеждение в изначальной доброте человека и его способности к совершенствованию. Но исторический опыт того поколения, к которому принадлежал поэт, заставлял усомниться в правильности и этого тезиса. Буржуазная революция привела не к победе человечности, а к разгулу грубых и жестоких страстей, и Байрон уже иначе смотрит на человека, чем писатели XVIII века с их благодушной верой во всепобеждающую доброту.
Если реакционные романтики с торжествующим ожесточением, нападали на великие освободительные идеалы XVIII века, уверяя, что опыт французской революции окончательно и бесповоротно скомпрометировал эти идеалы, то Байрон с болью душевной думал о том, почему же получилось так. Этот душевный надлом был одной важнейших основ трагического мировосприятия Байрона. Именно терзает исстрадавшуюся душу Манфреда. Поэт почти ничего не говорит нам о том, что довело Манфреда до его трагических мучений. Прошлое Манфреда покрыто мраком, и напрасно стали бы мы екать объяснения его душевным мукам только в сфере личного опыта героя. Правда, видимо, и его личная жизнь была в чем-то неудачной, но не в этом корень той мрачной безысходности, которая овладела душой героя. Мы слышим в его устах скептически-трагическую оценку разума, ибо знание, достигаемое посредством его, по словам Манфреда, лишь умножает человеческие скорби. Чем больше человек знает, тем больше открывается перед ним зло, царящее в жизни.
Речи Манфреда облечены в высоко поэтическую форму, но это не только поэзия, это и философская полемика против просветительской веры в разум. Но здесь же, в этой же полемике, явственно сказывается и решительное отличие Байрона от реакционных романтиков. Те просто прокляли разум, как чуму, и провозгласили принцип мистической непознаваемости жизни, прославляя слепое чувство и утверждая иррационализм. Байрон не пойдет с ними по этому пути. Пусть разум бессилен, пусть вместо успокоения приносит он страдания, но отказ от разума равносильно отказу от своей человечности. Даже если знание не облегчает скорбей человека, все же лучше знать, чем слепо верить.