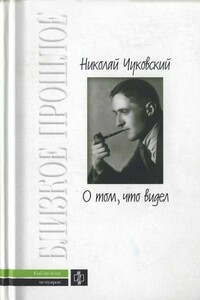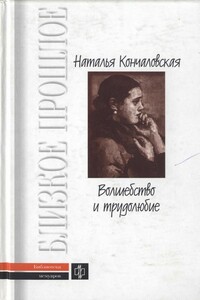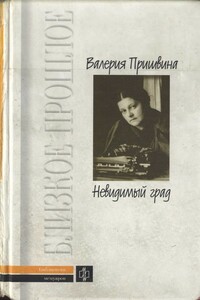Без выбора | страница 76
Кстати, именно там, в больничной зоне, куда «залетел» по язвенной причине, я впервые начал писать всерьез. Чем-то меня, помнится, лечили, но главным «лекарством» был новокаин, каковой я поглощал чуть ли не стаканами — благо полно было этого новокаина. Однако ж более-менее безболевой была только одна поза — на кровати стоишь на коленках, на подушке лист фанеры, на фанере тетрадь. В такой вот малоэстетичной позе я написал первые свои рассказы и короткие повести, которые в 78-м году вышли в издательстве «Посев» отдельной книгой под общим названием «Повести странного времени». Один из рассказов, чуть ли не первый из написанных, под названием «Встреча», и по сей день в некоторых школах провинции в программах чтения.
Любой бывший зэк моего времени (подчеркиваю — моего, а не сталинских времен) признается, что сохранил в душе массу истинно светлых и радостных воспоминаний о своем лагерно-тюремном бытии. (О дурном и тяжком мы тоже помним, но вспоминать не любим.)
Расскажу-ка я об одном вечере в той самой зоне под номером одиннадцать знаменитого и обильно утрамбованного человечьими костями Дубровлага, что в Мордовии, посредь лесов и таинственных лесных объектов, куда случайно забредший грибник или охотник домой мог возвратиться через недельку молчальник молчальником.
Это было двадцатого августа шестьдесят восьмого года, как мы тогда считали, в день расстрела поэта Николая Гумилева. Было воскресенье — день нерабочий, и в нерабочий этот день намечен был нами, конкретно кем — и не припомнить, вечер памяти расстрелянного русского поэта, которого то ли по незнанию, то ли по недоразумению зэки разных национальностей считали поэтом лагерным и, соответственно, своим. Таким культом почитания не пользовался в наши, послесталинские времена ни один из действительно лагерных поэтов: ни Слуцкий, ни Берггольц, ни Мандельштам. Удивительно ведь и другое: у Гумилева нет ни одного стиха собственно о России, по крайней мере в том ключе, как это у Тютчева или Блока, у него вообще нет стихов о реальной жизни — вот уж, казалось бы, поэт-интер…
И вдруг как бы в диссонанс…
Как раз это стихотворение читал на том допоздна затянувшемся вечере мальчик-литовец (имени, к сожалению, не помню), арестованный за воинствующий литовский национализм.