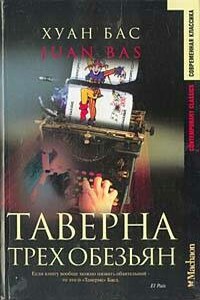Скорпионы в собственном соку | страница 13
У меня не было сил открыть подозрительный конверт до тех пор, пока я немного не утешился после публичного оскорбления при помощи полдюжины проверенных Устриц и полбутылки «Вейгарадес», моего «настольного» «Альбариньо»,[32] в баре «Фернандо», всю жизнь простоявшем на Пласа Нуэва, – ах, эта моя врожденная любовь к устрицам! Я заплатил за аперитив благодаря тысяче песет, которые одолжил из тощего кошелька Касильды, нашей верной служанки. Как говорит Джозеф Конрад, невзгоды делают хороших людей плохими, что уж говорить о нас, тех, что и раньше не занимались тем, что бросали крошки голубям в парке…
Посреди площади, квадратной, как голова моего прародителя, под свинцовым зимним небом, очень сочетавшимся со всем происходящим, я расшифровал его вымученную каллиграфию.
Пачито, сын!
Я больше не могу вас всех выносить, никого. Мне уступили комнату в «Бильбаине» до тех пор, пока не освободится люкс в отеле «Карлтон», который мне нравится и в котором я собираюсь жить впредь. Ты и твой идиот-брат будете получать чек на сто тысяч песет каждый только в течение ближайших трех месяцев (забудь о кредитной карточке), – я считаю этот срок достаточным для того, чтобы вы придумали, как зарабатывать себе на жизнь.
Тебе сорок один год (или сорок два?), дармовые харчи закончились. Естественно, ты можешь продолжать жить с вашей ошалелой матерью в моем доме (по крайней мере на данный момент). И я время от времени буду навещать вас. Я уже давно должен был принять это решение…
Какое облегчение.
Удачи, сын.
Твой освободившийся отец
Огроменная капля помета двух голубей, летевших вместе в крейсерском полете, – может, это были души вкрадчивых Эпифанио и Бласа, – попала непосредственно в середину моей непокрытой макушки и на слово «удачи» – дурной знак. А потом полил дождь, как в тот день, когда хоронили Асофру: гроб был свинцовый и плавал. Я остался там, неподвижный, как сломанная кукла, пропитываясь влагой. Также как в «Касабланке», чернила «паркера» моего старого, лишенного родительских чувств отца потекли, и бумага размокла под моими одеревенелыми пальцами. Дерьмо чокнутого голубя растворилось в воде и потекло по моей щеке, как траурная слеза, как пятно ликурга, того черного бульона, что спартанцы делали из свиной крови, уксуса и соли.
Я ощутил одну часть глухого смятения, девять – сильного ступора, несколько капель горького отчаяния, колотый лед до краев души и зеленую вишенку досады – отвратительный напиток.