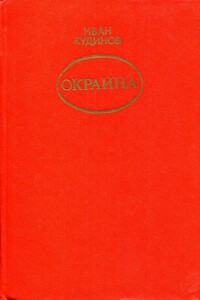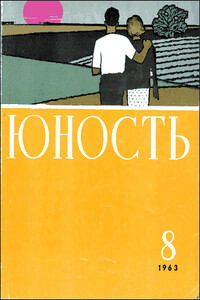Сосны, освещенные солнцем | страница 52
После болезни, длившейся почти три недели, Шишкин впервые вышел из дома и поразился перемене, происшедшей за это время в природе. Чистый снег лежал на тротуарах, на деревьях и крышах, пушистыми козырьками свисал с фронтонов домов. Шишкин был еще слаб, голова кружилась от свежего холодного воздуха. Нева встала, синеватый лед неровно поблескивал на солнце. Голоса и шаги прохожих, отчетливо, ясно звучали на морозе. Гине шел рядом, поглядывая на друга.
— Ничего, теперь уже совсем неплохо. Что там у вас нового?
— Все старенькое, — усмехнулся Гине, слегка придерживая Шишкина за локоть. — Они решили предъявить «москвичам» повышенные требования. Полагают, видно, что большинство из нас с треском провалится на первом же экзамене.
Они — это профессора Академии.
Шишкин шел улыбаясь, глубоко дыша, чувствуя в освободившемся от недуга теле необыкновенную, непривычную легкость.
— Им-то что за интерес проваливать нас? — спросил он и, наклонившись, зачерпнул горсть снега, поднес к лицу.
— Ты что? — испугался Гине.
— Хорошо пахнет, — сказал Шишкин. — Знаешь, о чем я вспомнил: когда я надумал ехать учиться, мать плакала и умоляла не делать глупостей, а Дмитрий Иванович, зять, предлагал мне даже лавку… Я отказался. Вечером мать зашла в мою комнату и опять уговаривала, упрашивала не ездить, а взяться за ум, заняться каким-нибудь доходным делом. И спрашивала: то ли тебе не хочется, Ваня, быть уважаемым, богатым человеком? Или ты хочешь стать маляром? А я сказал: не маляром, а художником. — Он замолчал и шел, задумчиво улыбаясь. — Они и до сих пор не очень-то верят в мою затею, — сказал он с грустью. — Пишут ласковые письма, зовут домой. Что я им могу сказать?’
— Да, брат, — вздохнул Гине, — возврата нет. Мы сами избрали себе дорогу, нам по ней и идти до конца.
— До какого конца? Нет, если я пойму, что из меня получается маляр, не больше, я все брошу и вернусь в Елабугу. Лучше уж и вправду завести лавку…
Говорил он об этом скорее для себя и будто прислушивался к себе, хотел убедиться, что не зря настоял на своем, а становиться маляром, если быть откровенным, он вовсе не собирается, тем более — лавочником.
— Ну, а еще что? — спросил он.
— Натурщики осточертели, — пожаловался Гине. — Не люблю мужское тело, — смотреть противно, а не только что рисовать. Эх, сейчас бы в Сокольники, на Лосиный остров!
— А может, в Булонский лес? — поддел его Шишкин, припомнив старый спор между ними. Шишкину казались смешными, ничтожными сетования и жалобы друга. После болезни он как-то острее воспринимал окружающее, и все казалось ему значительным, исполненным большого глубокого смысла — и застывшая, неподвижная Нева, и свежий рыхлый снег на улицах, и мимолетные взгляды незнакомых женщин, спешащих куда-то по своим делам, и цокот конских копыт по стылым мостовым… Ему было жаль немного, что вот это прекрасное лицо улыбнувшейся молодой женщины, возможно, он уже никогда не увидит. Хотелось пойти следом, догнать ее и что-нибудь сказать такое, чтобы она снова улыбнулась. «Безрассудство», — подумал он, не замечая того, что и сам идет улыбаясь.