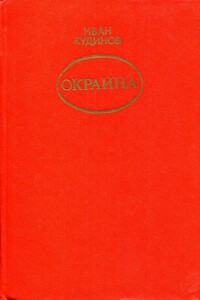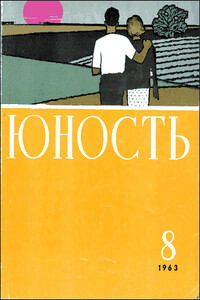Сосны, освещенные солнцем | страница 49
Они проводили глазами пролетку и двинулись дальше, согреваясь на ходу. Пока добирались до Мясницкой, взошло солнце, и все вокруг ожило, засветилось, влажно заблестели мостовые и крыши домов. Сладко пахло первой зеленью молодых лип. Прозрачный, кисейно легкий туман плыл над Москвой, над золотыми куполами соборов и кремлевскими башнями. И каждый из них по-своему, наверное, думал в ту минуту о том, что самое прекрасное все-таки — жизнь! Они были молоды, очень молоды, и жизнь казалась им неисчерпаемой и бесконечной.
Мокрицкий, беседуя как-то со своим учеником, улыбнулся и вдруг сказал:
— Да вы, мой друг, уже вполне сложившийся художник, я имею в виду не технику рисования — этому вы всю жизнь будете учиться, — а ваше отношение к творчеству.
Это была последняя их весна, и оба чувствовали и понимали — предстоит расставание. Аполлон Николаевич с грустью и сожалением говорил, как всегда, при сильном волнении заметно заикаясь:
— Т-теперь я вам не нужен. Н-ничему уже н-нау-читься вы у меня не сможете. И, пожалуйста, не смотрите на меня такими глазами — я говорю правду. И в училище вам больше нет надобности оставаться. Вы м-можете и должны п-поступить в Академию. Но, мой вам совет, больше п-полагайтесь на себя, на свой талант. Он у вас есть. И немалый. Берегите его.
— Спасибо, Аполлон Николаевич, — растроганно сказал Шишкин. — Я вас никогда не забуду. Спасибо дам за все! Если бы не вы…
— Если бы не я, — твердо возразил Мокрицкий, — вы все равно бы стали художником.
А жилось Ивану в ту пору, как и большинству его товарищей, нелегко, безденежье было частым. Отец почти не помогал, дела у него с каждым годом шли все хуже и хуже — продал мельницу, барка осталась одна, да и та всю осень простояла без дела. Но письма от отца приходят бодрые, веселые: затевает на Чортовом городище раскопки, московский археолог профессор Невоструев заинтересован и всячески способствует…
«Теперь мы решили, — пишет отец, — восстановить башню. Помнишь, ты зарисовывал ее развалины?» Иван подумал, что деньги на все это опять пойдут из отцовского кармана. И еще он представил себе, как восстановленная башня будет возвышаться над Камой и Тоймой, как раз у того места, где они сливаются, и видно будет ее, эту башню, со всех сторон. Все-таки нелегко отцу. Отговорить же его невозможно, задумал — непременно добьется своего, сделает. Могли бы и Стахеевы помочь отцу, да вряд ли станут они заниматься этим, у них размах более широкого масштаба, и дела процветают, идут в гору: торговые связи Стахеевых простерлись на тысячи километров — от Елабуги до Москвы, до Урала и дальше, в Сибирь, до самого Енисея… В Москве у Стахеевых постоянные приказчики. И в Казани, и в Вятке, и в Рыбинске свои люди, пароходы и пристани. Иван получает обещанные двадцать-пятнадцать рублей — Дмитрий Иванович верен своему слову. Иногда он и сам приезжает в Москву, останавливается, как всегда, на скромном посольском подворье, хотя при желании мог бы остановиться в самом роскошном номере любой гостиницы. Иван приходит к нему в гости, они горячо обнимаются, и Дмитрий Иванович, оглядывая могучую, не по-юношески окрепшую фигуру шурина, удивленно говорит: