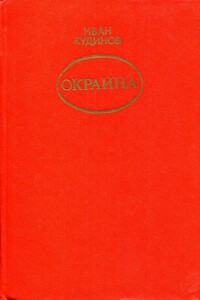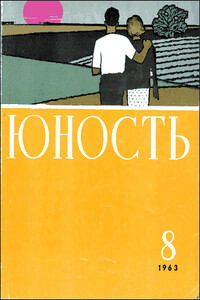Сосны, освещенные солнцем | страница 27
— Да зачем на животе-то? — засмеялся Иван. — Ног у тебя нет, что ли?
— А я как хошь могу, — похвастался цыганенок, но тут его оттерли, и цыганенок затерялся в толпе, так и не успев показать своего искусства. Огромный бурый медведь, оскалив желтую пасть, шел на задних лапах. Толпа расступилась враз, образуя широкий проход, словно ее одним взмахом рассекли надвое. Парень в красной рубахе, держа в руках цепь, весело и горласто выкрикивал:
— А ну расступись, народ, царь лесов идет!.. Сам с усам, танцор и грамотей, может повеселить и потешить людей…
Пахло потом, шерстью, горячими кренделями. И все неслось, вертелось, мелькало перед глазами, у Ивана голова кругом пошла от этой колготни. Ну и Москва, думал он с восторгом, сплошная карусель! А Москвы-то он, можно сказать, еще и не видел…
Вечером Стахеев повел Ивана к своему приятелю, знатному купцу Пахомову. Принял он их приветливо, искренне обрадовался Стахееву — были у них, видать, свои общие интересы. Пахомов расспрашивал о Елабуге, интересовался урожаем в При-камье, а сам все поглядывал на Ивана, смущенно сидевшего в уголке на диване.
— Учиться, значит, решил? Что ж, дело похвальное, — одобрил Пахомов. Потом долго, с интересом разглядывал Ивановы рисунки: «Недурно, недурно». И посоветовал перво-наперво посетить открывшуюся на днях в училище живописи и ваяния, на Мясницкой, выставку двух знаменитых живописцев — Айвазовского и Лагорио.
Такое пропустить было грешно.
Иван едва дождался рассвета. Ночь показалась ему бесконечной. Несколько раз он просыпался, лежал с открытыми глазами, глядя в темный потолок. Вспоминал Елабугу, мать с отцом, с трепетом думал о завтрашнем дне… Наконец рассвело. Иван поднялся, оделся и вышел на улицу. Было прохладно, остывшие за ночь тротуары дымились под жесткими метлами дворников. Дворники были важные, молчаливые, презрительно щурились и чему-то улыбались, глядя на одиноко шагавшего по тротуару большого, неловкого с виду парня. Иван спросил, как ему пройти на Мясницкую. Дворник неопределенно махнул рукой. Объяснил: надо пройти ворота Китай-города, Лубянскую площадь, а там и до Мясницкой рукой подать…
Иван долго плутал переулками, сворачивал то направо, то налево, прежде чем отыскал нужную улицу. Однако пришел рано и торчал у входа еще битых два часа, пока не открыли выставочный зал.
Волнуясь, переступил порог училища, поднялся по крутой лестнице на второй этаж. Зал просторный, светлый, посетителей еще не было, торжественная тишина стояла, придавая особое всему настроение, даже воздух здесь был необычайно свеж и прохладен. Иван вступил в зал с великим волнением, шел осторожно, неслышно, чтобы не нарушить торжественной тишины, сдерживая дыхание, но не в силах сдержать набатного, гулкого стука сердца. Вошел и замер перед полотнами. Написанные красками, полотна были огромны, и море заполняло их до краев, казалось, вот-вот вода выплеснется и хлынет сюда, в гулкий и просторный зал. Шишкин провел рукой по лицу, щеки были горячие, руки дрожали от волнения. Он их спрятал в карманах, сжав пальцы в кулаки. И смотрел, смотрел, глаз не мог отвести от картин… Это какие же краски нужны и какое мастерство! Иван чувствовал себя маленьким, беспомощным перед этими гигантами, а все его рисунки, сделанные в окрестностях Елабуги, казались детским лепетом. Он стоял возле полотен час и другой, будто силясь разгадать тайну, но чем больше стоял, тем загадочнее, непостижимее казались картины. Почти физически ощущалась глубина моря, его живое, осязаемое дыхание. Можно было поверить, что Айвазовский писал красками, но можно было и усомниться в том…