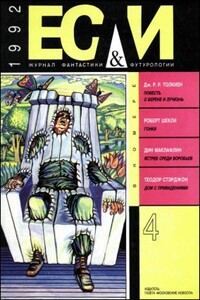Шесть гениев | страница 33
В распахнутой шинели, крепкий, широкогрудый и энергичный, он скорыми легкими шагами подошел к алтарю, посмотрел на картину, оглянулся на меня и сказал, что собирается взять ее.
Я остановил его и мягко объяснил, что этого не следует делать. (Я сам хотел ее взять, но, конечно, совсем другим способом). Однако Гольцленер упорствовал. Он взялся за раму и приподнял "Мадонну Кастельфранко", проверяя, как она прикреплена к стене. Я оттащил его за плечо и еще раз терпеливо объяснил, почему он не должен брать ее.
Но он оттолкнул меня. Он все-таки стоял на своем. Оглянувшись на двери собора, он вытащил из-под распахнутой шинели большой мешок, торопливо расстелил его на полу, выпрямился.
Тогда я поднял автомат и прошил его очередью.
Мы стояли совсем рядом. Когда очередь прошла по его груди, было похоже, как если бы кто-то изнутри - изнутри, а не снаружи - строчкой продергивал маленькие дырочки в сукне мундира, который чуть-чуть обгорал при этом. Дырочки же появлялись как бы сами по себе - без участия моего автомата. (Тогда я впервые увидел действие автоматной очереди так близко. На более далеком-то расстоянии его, конечно, приходилось видеть часто. Зимой, например, попадание пули в человека обычно отмечалось легким облачком снежной пыли на шинели).
Это был первый человек, которого я убил за время войны. И единственный.
Я оттащил Гольцленера, чтобы он не мешал мне с картиной, приступил к делу и взял ее.
Бой все приближался к собору. В двери я увидел, что наши отступают. Я справился с картиной и самым последним присоединился к ним.
Партизаны ввели в дело пулеметы. В городке, казалось, стреляло каждое окно.
Но картина была уже со мной.
Я привез ее сюда, в свой родной город, и здесь, в комнате фрау Зедельмайер, повесил на почетном месте - на самой освещенной стене. "Мадонна Кастельфранко" тут и висит все послевоенные годы...
И сейчас я смотрю на нее.
Уже совсем светло. Начинается день.
Я поднимаюсь с постели и прохаживаюсь по комнате.
В окне напротив, через двор, супруга господина Хагенштрема собирает со стола остатки утреннего пиршества. Мясник рано уходит в лавку. Картины в рамах смотрят на меня. Здесь нет только Валантена. Что-то всегда не позволяло мне взять его, хотя в Париже у меня бывали подходящие случаи. Но я не мог чего-то преодолеть. Может быть, это оттого, что я слишком лично к нему отношусь. Он самый великий из всех художников. Самый человечный, самый близкий мне. Мой единственный друг.