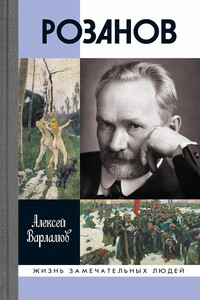Пришвин, или Гений жизни | страница 59
Когда в 1927 году Пришвин посетил после долгого перерыва Ленинград и совершенно не узнал в нем бывшую имперскую столицу, то Р. В. Иванов-Разумник сообщил ему, что вития в поэме «Двенадцать» —
— не кто иной, как Пришвин, и этим образом Блок ответил своему оппоненту за статью «Большевик из балаганчика».
«Статья была написана мной, — прокомментировал не без огорчения эту новость Пришвин, у которого теперь, в год десятилетия Великого Октября, по-видимому, не было большой охоты давнюю историю вспоминать, да и вообще его политические взгляды к той поре изрядно переменились, — под влиянием Ремизова в один из таких моментов колебания духа, когда стоит человека ткнуть пальцем и он полетит. Мне очень досадно, что Блок оказался способным расходовать себя на такие мелочи. И как глупо: это я-то „вития“!»
Однако вернемся в восемнадцатый год. Душевное состояние Пришвина в этот период тягостно, как никогда, снова приходят мысли о самоубийстве, и, пожалуй, в эти трагические годы и пробудилось в душе его подлинное религиозное чувство — приблизившись с той стороны, которая многим в ту пору была хорошо известна и изведана, — с ощущения богооставленности. Революционная Россия для Пришвина — спущенный пруд, на дне которого открылась грязь и исчезли небесные отражения в воде, и как противоречит этот образ таинственному Светлому озеру с его Невидимым градом! Мир опрокинулся, перевернулся, сошел с рельсов, и для человека, сделавшего своим жизненным кредо не отрицание, но утверждение и одновременно с тем не принявшего отчаянную попытку утверждения, предпринятую надорвавшимся Блоком, это время было психологически невероятно тяжело. Выход виделся ему не в настоящем и не в прошлом, а в будущем: мечталось дожить до того времени, когда все будет оправдано и осмыслено, — идея, с которой Пришвин прожил все советские годы.
Весной восемнадцатого года Пришвин отправился из Петербурга в Елец по «бесконечному мучительному пути из адской кухни в самый ад, где мучаются люди», и кто еще из крупных, уже заявивших о себе русских писателей того времени мог сказать, что самые тяжелые годы русской смуты провел в деревне?
В Ельце Пришвин оказался меж двух огней: с одной стороны — восставшие мужики, с другой — бывшие помещики.
«Мужики отняли у меня все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад, я сижу в своем доме, как в тюрьме, и вечером непременно ставлю на окна доски из опасения выстрела какого-нибудь бродяги».