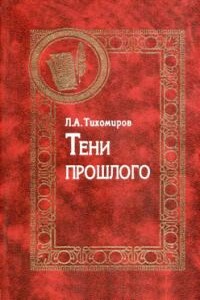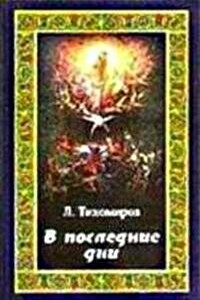Монархическая государственность | страница 102
Описывая время, предшествовавшее восстанию Юлия Цезаря, Плутарх замечает:
"В это время в Риме все ищущие должностей выставляли на площадях столы, покрытые деньгами и без стыда покупали голоса граждан, которые, продав голос, отправлялись на Марсово Поле не только для голосования за своих покупщиков, но чтобы поддерживать их кандидатуру ударами своих мечей, стрелами и пращами. В это время народные собрания часто расходились не прежде, как обагрив трибуну кровью и осквернив ее убийством; город, погруженный в анархию, походил на корабль без руля, разбиваемый бурею. Все люди рассудительные полагали, что будет еще большим счастьем, если это состояние безумия и агитации не приведет к чему-нибудь худшему, чем монархия. Многие осмеливались даже публично говорить, что передача власти в руки одного лица была единственным средством излечить болезни республики" [Плутарх, "Цезарь", XXXI]. Необходимость единоличной власти была так очевидна, что сам Катон, желая избежать хотя бы диктатуры, предлагал назначить Помпея единственным консулом. Но собственно царскую власть римляне окончательно разучились понимать.
Доказывая право народа низлагать всякую власть, Тиберий Гракх прямо выдвигает, как общепонятную истину, такое рассуждение:
"Царское достоинство, которое заключает в себе власть всех магистратур, сверх того освящено религиозными церемониями, которые ей придают божественный характер. Однако Рим изгнал Тарквиния, который несправедливо пользовался властью" [Плутарх, "Гракхи", ХVIII]. У нас говаривали в старину: "Не Москва Государю указ, а Государь Москве". Эта идея была бы понятна Юлию Цезарю, но не Гракху, не Марию, не Сулле, вообще никакому римлянину времен республики.
У римлян, говорит Блюнчли, "Государственное устройство приводится в органическую связь с народом. Римляне признают государство "устроением народа" и волю народную считают источником всякого права" ["Общее государственное право", стр. 51].
Рим не давал места истинной монархии, как власти верховной, за отсутствием в национальном идеале не только религиозного, но и нравственного характера. Римский национальный идеал был чисто гражданский. "Первые разграничив право с нравственностью, римляне указали на юридическую природу государства, - говорит Блюнчли. - По их воззрению, государство есть не этический порядок мира, а прежде всего юридический порядок". Источник же права был народ и его чисто-практическая жизнь. В период самого полного развития империи, Гай дал определение: "Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocatusque jus civile" ["Общее государственное право", стр. 51] [35]. Чисто гражданский государственный идеал Рима был выработан непрерывным политическим расчетом, практикой управления народом. Представителем этого идеала мог быть только создатель его, то есть сам же Рим, senatus populusque, то есть римская нация. Ее власть могла быть вручена отдельному лицу только как делегированная.